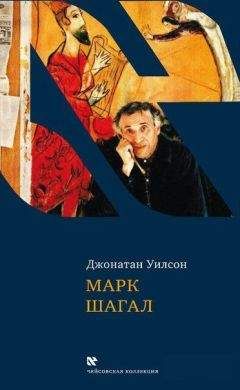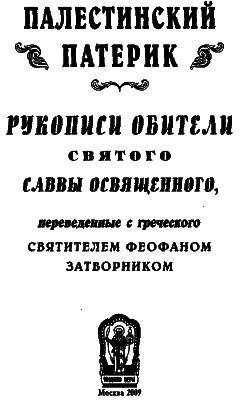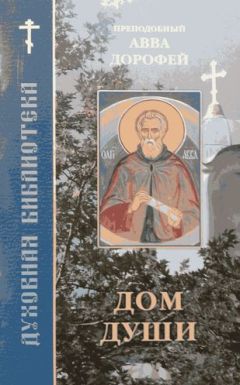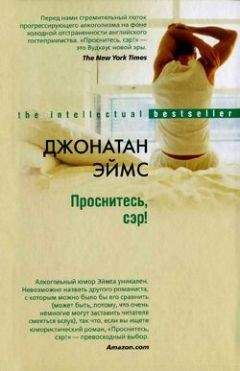Палестинский роман - Уилсон Джонатан
Фрумкин, коротко поговорив с шофером, распахнул перед Джойс дверцу:
— Арон вас отвезет. Мне очень жаль, что я не могу вас проводить, но у меня до начала съемок еще очень много дел.
— Вообще-то я бы предпочла пешком.
— Решительно не советую. Слишком далеко и опасно.
— Вовсе нет. — Вежливость на грани самоуничижения — эту науку Джойс переняла у англичан.
— Иначе мне придется вас провожать, — пригрозил Фрумкин. — И тогда вы будете виноваты в том, что мы завтра поздно начнем. Вы хоть представляете, сколько стоит час съемок?
Он взял ее за руку, потом наклонился и нежно поцеловал в щеку.
— Спокойной ночи, миссис Блумберг.
Джойс села на заднее сиденье лимузина. Шофер закрыл за ней дверцу и, обойдя лимузин, занял место за рулем. Джойс откинулась на мягкое кожаное сиденье, чувствуя себя Золушкой. После губернаторского это был, наверно, самый роскошный автомобиль в Иерусалиме. Марк наверняка скривился бы. Но иметь дело с этими киношниками приятно — было в них что-то чистое, обнадеживающее. И Джойс знала почему: война обошла их стороной. Как там сказал накануне вечером Питер Фрумкин? «Нам выдали экспедиционные пилотки, но до экспедиции дело не дошло». Только они собрались отправиться во Францию, как война закончилась. И три американца — повезло ребятам — дослужили свой срок в Кемп-Тейлоре [52]. Сами-то они, естественно, смотрели на это иначе. Они все трое хотели быть героями. Марк мог бы много чего порассказать им об этом, и даже Роберт Кирш — он как-никак потерял на войне брата.
Машина плавно катила по ночной дороге. Луна над Масличной горой казалась разбухшей, очертания холмов подрагивали в бледном мареве, как волны. От этого зрелища захватывало дух, Джойс даже пожалела, что она неверующая: иначе она знала бы, куда направить этот избыток чувств, вдобавок к сионистскому пылу. Ей так хотелось сделать что-нибудь для этой страны! Досадно. Она скучала по лондонским сборищам: толкотня, горячие споры, громкие голоса, общий дух товарищества — там она чувствовала, что творит историю. Марк, сам того не ведая, привел ее туда. Рассказал ей о Джейкобе Розене, показал его стихи — она читала их и перечитывала снова и снова, пока мечта Джейкоба о полном надежд, величавом, безбожном Иерусалиме первопроходцев не стала ее мечтой. Не кто иной как Джейкоб отвел ее однажды в Тойнби-Холл, где в углу сложены десятки мокрых черных зонтиков, зато на стенах — плакаты с видами солнечной Палестины. И вот она здесь, на этом самом месте, а ее сионизм рискует остаться уделом одиночки.
Не прошло и пятнадцати минут, как они свернули на ухабистый проселок, ведущий к дому Блумбергов. Шофер остановился метрах в двадцати от калитки.
— Спасибо, Арон, — улыбнулась Джойс.
Водитель обернулся к ней. Белая майка, коричневые шорты, темные носки и изрядно стоптанные кожаные ботинки — вот и вся его форменная одежда.
— Вам нравится мистер Фрумкин?
Джойс опешила.
— Да, вообще-то.
— Влиятельный человек. И крепко стоит за евреев.
— То есть?
Арон многозначительно поднял бровь, давая понять, что это сугубо секретная информация.
— Не то что британские евреи. Слишком дорожат своими чаепитиями. Их уже не изменить. Англичане на сто пять процентов. Думают только о том, что надо быть честными. А на Ближнем Востоке нельзя быть честными. Мистер Фрумкин знает, что здесь следует делать.
— И что же?
— Его спросите. Мы с ним много на эту тему говорили.
Ответ Арона был типичен для местных: сначала заманят, а потом молчок. Англичане такие же. Возможно, подумала Джойс, это как-то связано с тем, что в маленьких странах границы — вот они, рядом. Американцы готовы говорить сколько угодно и о чем угодно — их речи широки, как континент.
— Хорошо, я спрошу.
Джойс вышла из машины, захлопнула дверцу. Подождала, пока Арон разворачивался, и, когда звук мотора стих вдали, ступила в прогал в зеленой изгороди. Жара, казалось, к ночи еще усилилась. Пахло спелым инжиром. Где-то рядом хрустнула ветка, градом посыпались камешки. Джойс замерла. Неужели кто-то следит за ней? Она огляделась. Луна скрылась, и звезды, обычно такие яркие, подернулись дымкой.
— Эй! — крикнула Джойс, но никто не ответил.
В кронах звенел тысячеголосый хор цикад. Джойс, отбросив страх, медленно пошла по тропинке к дому. Войдя, закрыла дверь на замок, и, не зажигая огня, повалилась на постель, не заметив ни сложенной записки, которую Роберт Кирш подсунул под дверь часом раньше, ни помятых и порванных холстов, которые кто-то в этот вечер потоптал — случайно или нарочно, пока в спешке обыскивал комнату.
22
Огромная лужа из нечистот расплылась по Вади-аль-Джоз, в остальном (если не считать этого пятна) прелестной долины, раскинувшейся между особняком шейха Измаила, Великого муфтия Иерусалима, и менее впечатляющим жилищем Клайва Баркера. Самый дорогой мусульманский жилой район заливало дерьмом с Меа Шеарим, где селилась еврейская беднота. Местные домовладельцы, все мусульмане, рвут и мечут. Но с какой стати Росс послал его разбираться? — удивлялся Кирш: ведь это дело вполне могли бы уладить между собой Сионистский комитет, оплативший канализационные работы в Меа Шеарим, и администрация, которая, как предполагается, следит за надлежащим исполнением работ. Успокаивать возмущенных, но безобидных арабских жалобщиков не дело полиции, если только обязанности Кирша не поменяли втайне от него. Он должен расследовать убийство Картрайта. Накануне он все утро сочинял письмо родителям Картрайта, вдогонку к телеграмме, а перед глазами то и дело мелькали фразы из официального послания, которым его родителей известили о гибели Маркуса. Он уже собирался закрыть кабинет и съездить осмотреть место засады, как позвонил Росс и сказал, что, поскольку, как он считает, гибель Картрайта и ранение Лампарда и Доббинса — происшествие исключительно военного значения, он возьмет расследование под свое крыло. Это была явная нелепица — даже если Картрайт стал жертвой террористической атаки или политического убийства, все равно это дело полиции. Кирш чувствовал, что Росс что-то скрывает, но пока не понимал, что бы это могло быть. И вот результат: детектив Кирш вгрызается в Дело о дырявой канализации. Росс, должно быть, догадывается, как Киршу дерьмово, потому и отправил его разгребать дерьмо.
Было девять часов утра, а солнце уже шпарило вовсю. Все, чего Киршу сейчас хотелось, — найти Джойс и открыть ей, что его тревожит. А вместо этого он, стараясь не дышать, переступает через зловонную черную лужу разложившихся экскрементов и гниющих отбросов.
Баркер поджидал гостя на крыльце, его лицо под тропическим шлемом, обычно бледное, было свекольно-красным. Он рвал и метал.
— И он является… — кричал он с порога, пока Кирш кое-как пробирался по полузатопленному саду, — как развязка в старой комедии! [53]
— Ну-ну… — Кирш не слишком симпатизировал Баркеру: тот держался так, будто звание «советника по гражданским делам» давало ему право считать Иерусалим своей личной вотчиной.
— Ну и что? Я с утра до поздней ночи тыкаю ножиком в трухлявые деревяшки Аль-Аксы, ломая голову, как лучше сохранить самые прекрасные места этого города, а прихожу домой — и тут такое. Стыд и срам! И мне плевать, кто нас слышит, можете так и передать своему лорду Сэмюэлу, мне все равно, но говорю вам, если бы была обратная ситуация и дерьмо из мусульманских трущоб хлынуло на лучший еврейский Квартал, вопли слышны были бы аж на Уолл-стрит и Парк-Лейн.
Несколько месяцев назад в высших чиновных кругах британской администрации ходил по рукам стишок, и кто-то, кому было невдомек, что Кирш не чужд той самой религии, что высмеивается в стишке, дал ему почитать: