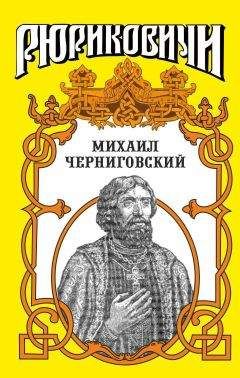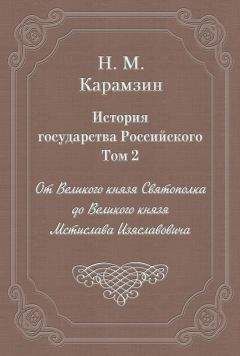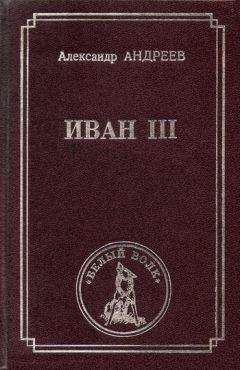Ульрих Бехер - Охота на сурков
— Муссолини? — переспросил я засыпая.
На этот раз я действительно крепко уснул и заметил это, когда мы въехали в Сильс-Мариго, деревню, расположенную между двух озер, Патриарх уже не лежал, а сидел рядом со мной, а де Колана проскрипел:
— Черно-Белый, съездим к Ницше?
Я с трудом выпрямился, потянулся, зевнул, уткнувшись в локоть, и, ничего не понимая, уставился на адвоката.
— Доброе утро, — усмехнулся он. — Надеюсь, хорошо почивали… Не хотите ли осмотреть дом, где Ницше сошел с ума?
— Гм?
— В тысяча восемьсот восемьдесят восьмом году. Отвезти вас?
— Нет.
— Нет?
— Я не поклонник Ницше.
— Не поклонник?.. — Его брови исчезли под полями шляпы.
Замешательство, более того, разочарование мелькнуло в его усмешке. Вполне вероятно, что гейдельбергский студент Гауденц де Колана был поклонником Ницше. В дальнейшем Ницше не очень-то помог бывшему студенту и его место занял алкоголь.
Мы черепашьим шагом тащились вверх по небольшому холму, мимо обшарпанного указателя с надписью «ДОЛИНА ФЕКС И МАРМОРЕ», и невралгическая боль у меня во лбу, обычная при пробуждении, словно бы нехотя начала утихать. Остановились мы перед живописным белым домиком, расписанным благочестивыми изречениями по-реторомански, — небольшим ресторанчиком. Под выступающей двускатной крышей висела для просушки огромная рыболовная сеть. Я огляделся; псы, кувырком выкатившись из машины, отряхивались, виляли хвостами, готовые нас сопровождать. В этот миг из-за леса, что рос за ресторанчиком на крутом склоне и терялся в тумане, из этой туманной дали, низверглась стая белых ворон и пролетела в нахальной близости от нашего ветрового стекла. Из их разверстых желтых клювов вылетали не слишком благозвучные призывные крики, вызвавшие отчаянный лай всей своры, я же ясно услышал:
— Хлад… Хлад… Хлад… Хлад…
Беспорядочной толпой с беспечной стремительностью мчась под густыми неотвратимо все и вся поглощающими свинцовыми тучами, прямиком к скалистому, врезающемуся в Сильское озеро мысу, на котором громоздились забытые развалины какого-то замка, они гомонили совсем иначе, чем кричал усталый беркут.
— Слышали? — дрожа от холода пробормотал я. — «Хлад…», кричат они. Их правда… И это называется июнь…
Вороны каркают…
И в города свой устремляют лет…
Вот ляжет снег…
Беда, коль у тебя отчизны нет…
Ваш друг Ницше сочинил. Вы знаете это стихотворение, адвокат?
— Да оно всем известно, — проскрипел адвокат, уклоняясь от ответа.
— Нетнетнет, — твердил я. — Хоть, э-э, в моей нынешней ситуации оно как по заказу про меня, я не поклонник Ницше, о чем вы уже знаете. Но в тысячу раз меньше уважаю я ницшеанцев.
Теперь в его ухмылке проскользнула обида. Он молча взялся за ручку дверцы. Но я не мог допустить, чтобы он так с обидой и вышел из машины, и ухватил его за обрывки ниток от бывшей пуговицы на пальто.
— Минутку, одно слово, прежде чем мы зайдем в дом. Подумайте только, господин де Колана — Ницше! Крупный писатель, ничего не скажешь, одержимый одиночка, мученик, да, как он сам себя называл? — выразитель «вакхически-безудержного» возмущения процветающей европейской буржуазией, погрязшей в тупом самодовольстве, возмущения оснащенным техникой бараньим стадом. Но что, скажите мне, что сделали его приверженцы из этого так называемого ученья? Что сделал из него господствующий класс немцев, которым этот человек высказал так много горьких истин? А знаете ли вы, что сестра Фридриха Элизабет Фёрстер-Ницше на рождество преподнесла кайзеру обывателей, Адольфу Гитлеру, трость философа?
Адвокат, съежившись за рулем, дергал себя за грязноватосальные усы.
— К недурным результатам привела его «Воля к власти»! Великий муж хоть и паралитик, а перевернулся бы в гробу, узнай он, как был использован его Заратустра.
— Ху-у-ух! — чихнул Патриарх, раздув замшелую пасть. Слезящиеся глаза молили недвусмысленно: «Прошу покорнейше, выходите же наконец».
Но я продолжал, почесывая его затасканный парик:
— Народ господ, человек господин, господа господ? Неужели вы серьезно считаете, адвокат, что в мире навечно закрепится положение, когда «от-природы-господа» в безумной вакханалии строят свое благополучие на неблагополучии «от-природы-обделенных»?
При слове «вакханалия» де Колана сник еще заметнее. Вот теперь бы мне примирительно похлопать его по плечу и выйти из машины. Но в меня точно бес вселился, и, глядя на перешеек, где стая ворон кружила расплывчато-белесым пятном, словно беспокойно-туманное облако над развалинами замка, я продолжал:
— По правде говоря, я порой и сам не знаю… если… если в один прекрасный день буржуазия испустит дух, не… не появится ли кто другой… — я помолчал, а затем тихо продолжал: — Существует ли вообще совершенствование, да, совершенствование так называемой совести… или, — я, с трудом подыскивая слова, продолжал почесывать уши Арчибальдо, — или же действительно существует одпо-единственное, что идет в счет…
— Что? — Де Колана очнулся.
— Э-э — власть. Не власть одной касты или класса. А моя, моя власть.
— А-ааа! — издал адвокат хрипло-победный клич и, распространяя зловонный дух, приблизил ко мне лицо, на котором, точно освещенный изнутри, пылал чирей. — Так вы, Черно-Белый, в душе-то, стало быть…
— Лицемер и только притворяетесь левым, хотите вы сказать? — вежливо осведомился я, отворяя дверцу.
В сумрачном коридоре — никого. Пощипывающая прохлада, пахнущая молоком. Коридор длинный, туннелеобразный, на стенах настоящая выставка: изящные рога серн и смело изогнутые — каменных козлов. Коридор ведет во двор, в проеме двери видны развешанное белье, а также черно-белый зад и набухшее, розовое вымя флегматично помахивающей хвостом коровы. А теперь показался приземистый рыжеволосый крестьянин с привязанной к поясу скамеечкой для дойки, он показался и исчез с деловым видом, не удостоив нас вниманием.
Адвокат открыл дверь слева, на ней выжжено название зала: СТЮВЕТТА. Небольшой зал, пустой. Обшитые деревом стены, три-четыре до блеска начищенных стола, скамьи по стенам вокруг всего зала, все из неполированного красноватого кедра, источающего постоянный сладковато-терпкий смоляной аромат. Колоссальная кафельная печь занимает едва ли не четверть помещения. Предвидя холодный вечер, ее досыта накормили поленьями; они тихонько потрескивают.
Как и в каждом истинно энгадинском доме, выстроенном наподобие крепости в защиту от долгой высокогорной зимы, окна здесь походили на глубокие бойницы. Судя по ширине подоконника, толщина наружных стен не меньше, чем метр двадцать пять. Зимой от холода спасались двойными рамами, летом хватало одной наружной, но, чтобы открыть или закрыть ее, приходилось вползать на животе в «бойницу».
В простенке между окнами поблескивает стеклянная горка, в ней выставлены серебряные кубки, обвешанные венками из искусственных дубовых листьев, вымпелы. На лоскуте серебристо-красной парчи вышито: «ВСЕШВЕЙЦАРСКИЕ СОСТЯЗАНИЯ ПО СТРЕЛЬБЕ В ЛЮЦЕРНЕ», на лоскуте парчи желто-сине-белой — вставший на дыбы каменный козел, геральдический зверь Граубюндена. Наверху горки красуется своеобразная подставка из папье-маше, напоминающая скалу; на ней на задних лапах стоит чучело сурка, его черновато-белая с рыжим отливом шкурка почти сливается с деревянной обшивкой стен.
Де Колана кряхтя снял пальто, постучал янтарным набалдашником по заслонке, закрывающей окошечко на кухню, плюхнулся на скамью у печки, подвинулся кряхтя к столу и, крутанув рукой в воздухе, пригласил сесть меня. Я сел в уголок, но тут подарок Максима Гропшейда выскользнул из заднего кармана моих брюк. Я подхватил его и сунул обратно, ощутив холод от инкрустированной перламутром ручки.
Часть спаниелей из нашей свиты, прыгнув на скамью у печки, занялась важным делом — поиском блох и вылизыванием собственного живота. Другая — обследовала пространство под столами и стульями. И вот уже куда ни кинь взгляд, везде болтается нечесаное ухо, постукивает кончик хвоста, подрагивает короткая в лохмушках лапа.
В коридоре послышалось цоканье деревянных башмаков. Цок — и кто-то распахнул дверь. В зал первым неуклюже пробрался сенбернар величиной с теленка, огромная голова, налитые кровью глаза и слюнявая морда. Едва завидев свору, он изо всех сил заколотил огромным хвостом. Косматая братия соскочила со скамьи, забралась под столы, сбилась в кучу, стала осыпать бранью врага, поначалу — подобно героям «Илиады» — на почтительном расстоянии, каждый раз делая попытки приблизиться, заливалась отчаянным лаем и отскакивала пружинящими прыжками на вытянутых лапах. Однако вся кутерьма носила несерьезный характер, и я понял, что на атаку эту спаниели отваживались не впервой, и кончалась она к общему удовольствию.