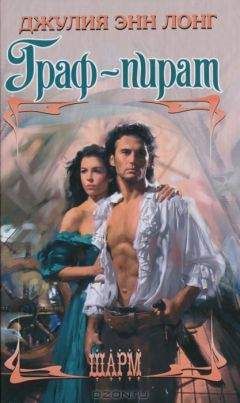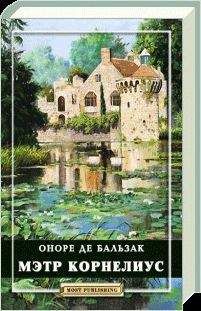Роуз Тремейн - Реставрация
— Все это верно, но король гораздо мудрее меня или тебя, Селия, он настолько мудр, что понимает: хотя несчастья и потери учат, но по-настоящему эта наука усваивается со временем, когда у нас появляется возможность спокойно размышлять.
— Но сколько должно длиться это «спокойное размышление»? Я что, так и состарюсь в «спокойном размышлении», видя, как увядает моя красота и все те прелести, что раньше доставляли ему наслаждение?
— Нет. Уверен, он этого не хочет.
— Тогда сколько это будет длиться? Недели? Месяцы?
— Он не сказал, Селия.
— Почему? Почему он не захотел сказать?
— Потому что не мог. Он целиком доверил это дело тебе и мне.
— Тебе?
— Да. Именно я должен буду ему сказать, повторив его же слова: она обрела мудрость и освободилась от иллюзий.
— Вот как! — Селия резким движением сняла свою руку с моего локтя. — Тебе предназначено быть судьей? Король поручает своему шуту разбираться в вопросах моего просвещения. Да простит он меня, мне это кажется несправедливым.
— Конечно. Вне всякого сомнения. И все же в этом есть своего рода здравый смысл. Ведь я совсем не в восторге от своей роли, ибо считаю себя недостойным ее. Поэтому в моих интересах, Селия, чтобы ты как можно скорее пустилась в свое путешествие — постигать мудрость, и тогда я мог бы вернуться к своей беспечной жизни, ты — в свой дом в Кью, а король — в твою постель.
— Но как мне достичь мудрости? С чем отправиться в это «путешествие»?
— Не знаю. Разве что тебе поможет твой бесценный дар — пение.
— Пение? С его помощью я стану мудрой?
— Да.
— Каким образом?
— Не знаю. Могу только догадываться, что именно этот путь — твой. Пытаясь рисовать, я стал кое-что понимать о себе и о мире, поэтому, осмелюсь предположить, если петь, скажем, о любви или измене, или еще о чем-то, узнаешь не только об этих чувствах, но также и о бесконечных способах людей обманываться, уловках, к которым прибегают, чтобы распоряжаться судьбой другого человека. Так начнется твое «путешествие»…
Не похоже, чтобы Селию обрадовал мой совет. Она плотнее закуталась в плащ, покачала головой, на ее глазах выступили слезы.
— Я сделала бы все, что он попросит, — сказала она, — при условии, что понимаю, чего он хочет. Но как можно повиноваться, если не понимаешь просьбы? Как?
— Не знаю, — повторил я все те же слова в третий или четвертый раз. — Однако не сомневаюсь, что мудрость придет к тебе через музыку. И тут я помогу, чем смогу.
В тот вечер Селия и «юбочница» не соизволили покинуть Розовую Комнату, и я обедал в обществе сэра Джошуа Клеменса, — он по-прежнему держался со мной чрезвычайно любезно, я же всегда испытывал к нему бесконечное уважение. К моему величайшему удовольствию, он сказал, что убранство Биднолда его позабавило, и хотя такую обстановку не назовешь успокаивающей и ласкающей глаз, все говорит о том, что «в век рабской имитации и поголовного обезьянничания я выделяюсь из толпы дерзкой оригинальностью ума».
Мы отдавали должное великолепной жареной свинине, умело приготовленной Кэттлбери, когда сэр Джошуа заговорил о дочери, сообщив мне (как будто я раньше этого не знал), что ей невозможно любить кого-то или что-то на земле, кроме короля, которому она вручила свое сердце. «Селия преданная и послушная дочь, — сказал он, — но если король потребует, чтобы она ради любви отказалась от нас с матерью, не сомневаюсь, она сделает это».
— Сэр Джошуа… — начал было я.
— Я не преувеличиваю, Меривел, — продолжал он. — Ее чувство — наваждение, оно как бездонный колодец, куда при необходимости могут быть сброшены даже очень дорогие люди или вещи.
— А если король не позовет ее, что тогда станет с Селией?
— Он должен ее позвать. Селия пересказала мне ваш разговор. Выходит, ситуация теперь в твоих руках, Меривел. Если я правильно понимаю, она была слишком назойлива с королем. Укажи ей на эту ошибку. Цинизм — единственное средство защиты в наше время, и даже моей нежной дочери надо научиться пользоваться этой броней. Ей следует понять: того, на что она надеется, никогда не будет.
— А на что она надеется?
— Этого я не могу сказать, Меривел. Мне слишком стыдно.
Больше я не приставал к сэру Джошуа по этому поводу, и мы некоторое время молча ели свинину; мне попался хрящ — небрежность Кэттлбери — и я его выплюнул. Потом сэр Джошуа заговорил снова:
— Ты совершенно прав, считая, что Селия может обрести утешение — и, возможно, мудрость — через пение. Отказавшись от большинства вещей, она сохранила любовь к песне — во многом из-за того, что именно ее голос впервые пленил сердце короля.
— Я знаю… — заговорил я, — то есть не то что знаю, но догадываюсь…
— Ясно. Так что обязательно поощряй ее занятия пением. Осмелюсь предположить, что ты играешь на каком-нибудь инструменте.
— На гобое, сэр Джошуа, но…
— Прекрасно. Она обожает гобой.
— Но разве вы не задержитесь в Биднолде? Разве не погостите у нас? Тогда вы могли бы аккомпанировать Селии на виоле?
— Очень любезно с твоей стороны, но, к сожалению, это невозможно: жена нездорова и нуждается в моей помощи. Я бы с радостью увез Селию домой, но, как я понял, король хочет, чтобы она жила здесь.
— Именно такой наказ я получил от него.
— Значит, ей придется остаться. Скоро Рождество. Прошу тебя, Меривел, сделай все, чтобы до весны она вернулась в Кью.
Ложась вечером в мягкую постель, по которой за неделю успел соскучиться, я подумал, что за свою ложь буду наказан кошмарами. Отнюдь. Помню, что видел исключительно приятный сон о Мег Стори. Во сне я рисовал ее портрет. Она позировала в платье из мешковины, вроде того, что было на старухе, задравшей юбку и мочившейся в канаве, но само лицо было прекрасно и сияло радостью.
Вот я перед вами — в малиновом камзоле, такой, каким описывал себя в начале рассказа. Теперь вы со мной хорошо знакомы, разве не так? И сами видите, какие ловушки ставит мне жизнь. Как я и предсказывал, события только разворачиваются, мы находимся где-то в середине истории, и кто может сказать — во всяком случае, не вы и не я, — чем она закончится? Приведут меня в восторг или разочаруют те сюрпризы, что готовит мне жизнь?
С появлением в доме Селии я изо всех сил стараюсь сдерживать аппетит — хочу вызвать у нее симпатию или хотя бы смягчить то отвращение, какое она ко мне питает. Я умеряю свою жадность к еде. Не езжу в трактир «Веселые Бездельники». Меньше пью вина. Стараюсь сдерживать газы. Но вот сегодня, увы, я снова веду себя как дурак и развратник. Я в гостях у Бэтхерстов, у них собралась большая компания, и пир в разгаре. Здесь герцог и герцогиня Уинчелси и другие остряки из аристократов. Мы осушили море шампанского, а теперь — визжим и помираем со смеху; глядя, как старик Бэтхерст, внезапно пропавший с полчаса тому назад, въезжает в зал на громадном жеребце. При виде нас конь от изумления изгибает дугой хвост, испускает мощные газы, его черный задний проход мелко дрожит, и вдруг из него вываливается прямо на паркет огромная куча блестящего дерьма. Уинчелси так хохочет, что его лицо становится багровым, а глаза чуть не вылезают из орбит; я гляжу на Вайолет (она сжимает свой бокал, как лодочник — весло) и вижу, что она корчится от смеха, прикрываясь веером.
Покачиваясь, я встаю из-за стола.
— К черту благоразумие! — кричу я. — Давайте играть в кобыл и жеребцов!
— Оле! — вопит Уинчелси, отбивая дробь ногами, как танцор фламенко (ногами, которые всегда, прибавлю я от себя, обуты в туфли на исключительно высоких каблуках — Уинчелси не так повезло с ростом, как ему хотелось бы), и все гости тотчас начинают хлопать в ладоши и топать, все, за исключением тучного старика, сидящего напротив меня: он поглощен своими заботами — повернулся к леди Уинчелси, извлек своими жирными руками у нее из платья левую грудь и благоговейно держит ее, как будто она предмет огромного веса и ценности — золотая кегля, к примеру.
Я наклонился к леди Уинчелси, желая привлечь ее внимание.
— Сударыня, — говорю я, — ваш сосед завладел вашей собственностью.
Она опускает глаза, видит свою белоснежную грудь в красных, с набрякшими жилами руках соседа и улыбается беззаботно и пренебрежительно.
— А ведь и правда, — соглашается она.
Тут я чувствую, как меня больно бьет по пояснице женоподобный мужчина по имени Руперт Пинуорт — я встречал его при дворе.
— Легенды! — говорит он. — О них ходят легенды. Разве ты не знал, Меривел?
— О чем — не понимаю? — спрашиваю я.
— О грудях Фрэнсис Уинчелси. Разве не так, Фрэнсис?
Леди Уинчелси улыбается Пинуорту. Сосед уже сжал сосок в своих дрожащих губах. Не обращая никакого внимания на манипуляции старика — во всяком случае, не больше, чем если бы он предложил ей блюдо с редиской, она кивает, соглашаясь с Пинуортом, откидывается в кресле и извлекает из корсажа другую грудь, на которой красуется очаровательная коричневая родинка.