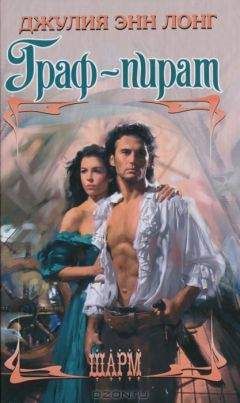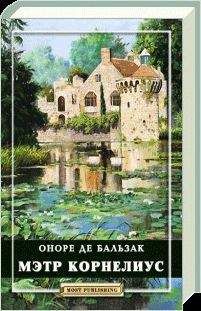Роуз Тремейн - Реставрация
— Темновато, сэр.
— И все же постарайся, пожалуйста, вспомнить то место и покажи мне.
Лодка продолжала скользить по воде. К этому времени мое лицо, пылавшее много часов подряд, охладилось, а руки, те даже немного окоченели. Однако внутри все клокотало от тревоги и волнения. В любой момент я мог увидеть приют любви короля и Селии. Потом, когда мы повернули и пошли против ветра и течения, я решился…
Я велел Лису подвести лодку к северному берегу и замедлить ход. Хотел даже сам сесть за весла, чтобы лодочник целиком сосредоточился на поисках дома, но он не доверил мне (и правильно сделал) свое основное средство к существованию, объяснив это тем, что может с закрытыми глазами провести лодку отсюда до Спителфилдса, то есть, по сути, сам же опроверг свою выдумку о мелях и столкновениях с лихтерами, а ведь с ее помощью он выторговал лишних два шиллинга. Я слишком от него зависел и потому не мог показать, насколько рассержен. Мы плыли молча, один раз сменили направление, вернулись назад на тридцать-сорок ярдов, потом вновь двинулись вперед, но вот Лис разглядел в слабом мерцающем свете небольшую пристань со ступенями, поднимавшимися из воды.
— Вот оно, — сказал он. — Вот это место.
— Но где же дом? — спросил я.
Лис пожал плечами.
— Это здесь, — повторил он.
Я велел ему пришвартоваться. Из лодки я выбрался с большим трудом (стоило мне подняться, она заплясала подо мной, как бешеная) и пошел по деревянному настилу. За изящными железными воротами начиналась узкая тропа, проложенная меж зарослей, которые я — на первый взгляд — принял за орешник и боярышник. Неожиданно луна скрылась за тучей, и я оказался в полной темноте. Я стоял и ждал возвращения луны. Хотя за спиной слышался плеск воды, на какой-то момент меня охватил страх, что я сбился с пути.
Осторожно я двинулся дальше — на этот раз меня окружала черная ночь — хоть глаз выколи, неизвестный зверь шуршал в сухих листьях, ночная птица неуверенно прокричала во тьме.
И тут я услышал музыку.
Вскоре луна вышла из-за туч, и тогда я увидел, что стою в крошечном цветнике, прямо перед домом. Дом не был большим или величественным. Судя по величине окон, даже парадные комнаты в нем были весьма скромных размеров. Мне вдруг пришло в голову, что, будь у меня дочь, я подарил бы ей именно такой дом. Однако я не мог долго размышлять о размерах дома, потому что увидел, что в одной комнате, из которой неслись звуки клавесина и флейты, собралось много народу. Горели лампы и канделябры. На диванчике у окна мужчина обнимал шейку хорошенькой девчонки. Похоже, музыкальный ужин был в самом разгаре. Пока я стоял под окном, потирая ладони, чтобы согреться, неожиданно раздался громкий взрыв смеха.
Всю дорогу до Лэмбета (где я решил заночевать в гостинице «Старый Дом») я изводил Лиса, уверяя его, что он ошибся. «Или ты видел не короля, или он пришвартовался в другом месте», — говорил я. Но хищное лицо лодочника выражало уверенность в своей правоте. Он ясно помнил, как легко и грациозно король привязал ялик и выскочил из него («можно было подумать, что он из моряков, сэр»), и уверял, что другой такой пристани нет в округе на расстоянии полумили или даже больше.
Я хорошо пообедал в «Старом Доме», разговорившись с приятным господином из Морского министерства об искусстве ваяния из мрамора. Мой собеседник утверждал, что терпение — главное, чем должен обладать скульптор: ведь кусок мрамора может быть не меньше двуспальной кровати, мастер же со своей киянкой может обработать в день не больше четырех дюймов.
Позже, размышляя о подобном упорстве, подобной настойчивости, я задумался, смогу ли вложить столько терпения в свои занятия живописью, и тут вдруг вспомнил нечто, отчего у меня ёкнуло сердце, — обещание, данное мною Вайолет Вэтхерст провести эту ночь в ее постели.
Ночью мне снилось, что кто-то утонул. Я был в Грэнчестер-Медоуз в компании Пирса и других студентов-медиков, мы сидели на берегу заросшего водорослями Кема[41] и вдруг увидели плывущий по реке труп. Всех нас охватило желание выловить его и использовать для анатомических занятий. Сняв камзолы, мы легли плашмя на землю и, вытянув руки, пытались ухватить распухшие конечности. И тут я осознал, что утопленница — Селия. Ее волосы запутались в водорослях, рот посинел и раскрыт, как у рыбы. Я хочу крикнуть товарищам, чтоб они ее отпустили, и тут просыпаюсь. Меня трясло, болело горло, из носу текло, и еще — опять мучила жажда.
Я зажег свечу и неуверенно, то и дело на что-нибудь натыкаясь в незнакомой комнате, добрел до умывальника, долго и жадно пил воду, потом вернулся в постель и постарался согреться. Однако сон об утонувшей Селии не шел из головы, он так испугал меня, что я боялся заснуть и снова его увидеть, — у снов есть пугающая особенность повторяться.
«Бог — создатель всех наших сновидений, — как-то объявил Пирс. — Он посылает в нагл спящий мозг то, чем мы пренебрегаем в обычной жизни». «Что за ерунда, Пирс! — воскликнул я тогда. — Почти все мои сны о еде. Ночи мои полны сладостными фрикасе из крольчатины, паштетами из оленины, шоколадными пирожными — всем, чем я не пренебрегаю и наяву». Если я правильно помню, Пирс тогда с кислой миной заметил, что Бог сознательно воссоздает во сне картины моего чревоугодия, но, помнится, я отмахнулся от его слов. Но на этот раз казалось вполне правдоподобным, что сон об утопленнице мне «послали» специально. Вид дома Селии, заполненного людьми, ее жилища, из которого лилась музыка (как будто бедняжка действительно умерла, и память о ней канула в воду), поверг меня в такое смущение и уныние, что я «пренебрег» своим долгом и отложил на неопределенный срок раздумья о том, что все-таки скажу ей, сам же целиком отдался беседе о скульпторах, работающих с мрамором…
Так я лежал, дрожал в лихорадке — болезнь внезапно поразила меня, — и пытался безотносительно к собственной особе проанализировать ситуацию как можно отстраненнее и точнее, как если бы Селия была моей пациенткой, а я был бы не я, а кто-то вроде мудрого Фабрициуса, некий великий, не способный ошибаться врач.
К рассвету, когда я наконец позволил своему раскисшему телу погрузиться на часок в благодатный сон, у меня была выработана следующая программа действий.
Вернувшись, я скажу Селии, что король, похоже, забыл ее; ходят слухи, что в Кью поселилась новая фаворитка; в разговоре со мной король выражал крайнее недовольство назойливыми требованиями Селии и якобы дал понять, что никогда не позовет ее снова. Я дам ей совет — как в свое время дал мне Пирс — перестать надеяться. «Если ты будешь надеяться, Селия, — скажу я ей, — ты сойдешь с ума, и я не берусь предсказать, каков будет твой конец. Не исключено, такой же, что и у бедняжки Офелии, утонувшей в реке». Я скажу ей, что наконец понял, из какого элемента состоит король. «Из ртути, — скажу я. — Из той самой ртути, какую он, часами торча в лаборатории, тщетно пытается выделить из киновари, однако этот элемент слишком неуловим, непоседлив, его невозможно удержать. Что толку мужчине или женщине любить ртуть?»
Но одного я не знал заранее: я не представлял, как отыскать лекарство, способное исцелить Селию от боли. Я чувствовал, что эта задача мне не по силам. Я не был Фабрициусом. Не был даже Пирсом. Я не мудрый человек.
Лихорадка, возникшая, вне всякого сомнения, из-за резких перепадов жары и холода, которым за прошедшие ночь и день подверглось не только мое тело, но и мозг, заставила меня целую неделю проваляться в «Старом Доме».
Когда жар усилился, я нащупал в паху и на шее слегка раздувшиеся лимфатические узлы, и вот тогда меня охватил настоящий ужас. Надвигалась эпидемия чумы, и лучшего места для старта, чем зловонные болота Лэмбета, ей не найти. Больше пятидесяти часов я думал, что умираю. Я плакал и кричал. Зная, что мои молитвы не будут услышаны, умолял бедную, погибшую в огне мать заступиться за меня перед Богом. «Милые родители, — слышал я в бреду свои слова, — пожалуйста, подарите Богу шляпу. Ему нравятся пышные оперенья. Подарите ему нарядную шляпу в обмен на мою жизнь!» Я говорил без умолку и громко рыдал. Трусость моя была безгранична, как воображаемый колодец от Норфолка до Чанчжоу.
На третий день жар стал ослабевать, узлы тоже уменьшились. Бедной служанке, принесшей бульон, я объявил, что воскрес; это заявление она расценила как страшное богохульство и испуганно перекрестилась.
Все еще слабый после болезни, я сел в дилижанс и доехал до Ньюмаркета, где и заночевал. Утром следующего дня я снова воссоединился с Плясуньей — кобыла радостно приветствовала меня нежным ржанием. Я безумно люблю животных. Мне нравятся всякие — и мелкие, изящные зверьки, и крупные звери. Они не умеют хитрить. А ведь в нашем бойком королевстве каждый, будь то мужчина, женщина или ребенок, непременно плетет интриги. Животные же не прибегают к уловкам. Подозреваю, что король так привязан к своим собакам в основном по той же причине.