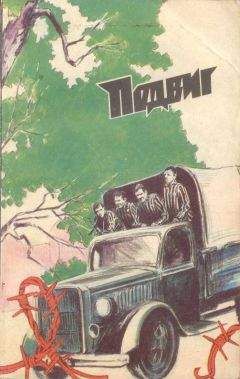Владимир Успенский - На большом пути. Повесть о Клименте Ворошилове
- Все?
- Так точно. Финита ля комедия. Мамонтов хотел одернуть адъютанта, но раздражение, нараставшее в нем, пока слушал, сменилось вдруг вялостью, безразличием. Чего уж срывать свое настроение на молодом офицере. Для него эта неудача столь же огорчительна, как и для генерала, но адъютант держит себя в руках, даже шутит. И молодец, ничего другого не остается: только делать хорошую мину при плохой игре и не терять все-таки надежду на лучшее будущее.
8
Великолепного коня захватили под Меловаткой. У вороного кабардинца с мускулистой шеей, с горбоносым профилем шерсть была черной как смоль, отливала синеватым блеском. Ноги сухие, точеные, очень сильные. Башибузенко целый вечер рассказывал Леонову, какие отличные лошади эти самые кабардинцы. Привычны к горам, переносят и жару, и холод, долго терпят без еды и питья. И рысят хорошо, и в галопе легки. А уж до чего умны, до чего надежны! Оставь без привязи - никуда не уйдет. Только покличь - и на месте.
Роман, заинтересовавшись, начал приглядываться к коню. Вероятно, у кабардинца долгое время был один хозяин, к которому он очень привык, скучал теперь без него. В больших, выразительных глазах - живая тоска. Он спокойно держался среди других запасных, заводных, коней, послушно шел за коноводом, но ездить на себе не позволял никому. А желающих было много. И Сичкарь, и Калмыков, и другие отменные всадники хотели покрасоваться на вороном, да не получалось. Кабардинец не ярился, не впадал в бешенство, стараясь сбросить человека, он сопротивлялся пассивно, умно, с непримиримым упорством.
Поднимет боец седло, чтобы аккуратно опустить его на спину коня, а тот в самый последний момент отступает в сторону. И так раза три, четыре. А ведь у седла с походным вьюком вес немалый, почти два пуда. Наконец седло на спине. Надо подтянуть подпругу. Кабардинец при этом слегка надувал живот, и когда боец ставил ногу в стремя и пытался лихо вскочить на коня, тот выпускал воздух, подпруга ослабевала, седло съезжало набок. Сам Башибузенко попался на такую уловку, больно ушиб колено, стегнул коня плетью, обозвал стервецом и больше к нему не подходил.
Самым упорным оказался Кирьян Сичкарь, считавшийся в эскадроне лучшим наездником. Он реку переплывал, стоя босиком на спине лошади, спрыгивал на том берегу в совершенно сухом обмундировании. Сколько диких коней обломал, приучил под седло, а упрямство кабардинца никак не мог перебороть. Вороной, правда, выделял его из числа других, позволял седлать, не чиня мелких козней. Часок-другой спокойно держал всадника, выполняя его команды. А как почувствует, что Сичкарь ослабил внимание, отвлекся, тут и выкидывал очередное коленце. То вскинется на дыбы, то на всем скаку остановится как вкопанный да еще задом накинет: Сичкарь чуть шею не сломал, вылетев из седла.
С легкой руки Башибузенко укрепилась за кабардинцем кличка Стервец. Держали его в эскадроне только для потехи, чтобы любители риска могли погарцевать, показать свое мастерство. А взять его себе никто не решался. Как идти в бой на этом коварном чужаке, он подвести может в опасную минуту. Не доверяли ему.
Леснов помаленьку прикармливал Стервеца овсом. Тот сперва отказывался, отворачивался, теснил Романа крупом. Однако постепенно привык. Особенно охотно брал соленую хлебную корку. Нравилась ему соль, даже руку вылизывал. А однажды днем, когда никого, кроме них, не было в сарае, совсем по-собачьи лизнул вдруг щеку Леонова шершавым горячим языком.
- Ну, спасибо, - растроганно сказал Роман. - Будем дружить с тобой.
За обедом он словно бы просто так, между делом, обратился к командиру эскадрона.
- Надо мне Мерефу менять.
- Чем не угодила?..
- Медлительная кобылка. Я с ней вечно в хвосто тащусь.
- Это верно. Пора, комиссар, настоящим конем обзаводиться.
- Стервеца возьму, если не против.
- Га? - Микола от удивления ложку не донес до рта. - Стервеца?! Да он из тебя в один секунд желтую мамалыгу сделает. Видел, каких чжигитов под копыта швырял?
- Да ведь джигиты к нему с нагайкой, со шпорами приступали, сломать хотели.
- А ты как приступишь?
- Гордость в нем чувствую и верность, нравится он мне. Попробую просто так, по-человечески.
- Ну, спробуй! - удивление Миколы переросло в восхищение. - Ну, валяй, скубент! Утри нос моим степнякам! - он так азартно двинул кулаком по столу, что подпрыгнула и на разные голоса зазвенела посуда.
Глава пятая
1
- Места эти, Семен Михайлович, очень даже необыкновенные и приметные, - карие глаза Ворошилова сияли, он был весел, доволен, как человек, получивший долгожданный подарок. - На юг до самого Черного моря, сам знаешь, ровная степь без всякого леса, каждое дерево заметно. А здесь, в долине Донца, лес настоящий, большой. Особенно летом красиво. Меловые кручи, зеленые листья, синее небо.
Буденный слушал, недоумевая: что это вдруг Клим Ефремович про небо да про деревья?.. В бронепоезде холодно, изморозь на металле, вокруг простираются мертвенно-голые заснеженные ноля, а член Реввоенсовета наворачивает насчет зелени и теплых дней. С увлечением рассказывает, как песню поет.
Правильно, леса по Северному Донцу богатые, есть где задержаться взгляду после степного однообразия, только из-за чего горячиться-то?
- Непролазные буераки тут с мелколесьем, с кустарником, - продолжал Ворошилов. - Разъезд недаром Волчеяровкой называется. Со всей большой округи волки сюда собирались. В степи открыто, а здесь укромно и вода близко. Плодились.
Семен Михайлович кивал, глядя, куда показывает Ворошилов. Из вежливости. Волчьи буераки не интересовали сейчас Буденного. Оценивал: больно уж местность удобная была белогвардейцам для обороны. Железная дорога огибает большой населенный пункт. Дома внизу, обзор широкий. Артиллерию мог бы здесь неприятель поставить. И лупцуй на большое расстояние без помех... Все преимущества имел враг, а не удержался на рубеже реки, даже серьезного сопротивления не оказал. Красные конники форсировали Донец с ходу, неожиданно, на плечах казаков, бежавших от Меловатки...
Между тем бронепоезд плавно замедлил ход и остановился возле невысокого косогора.
- Что там еще? - нахмурился Буденный.
- Это я предупредил машиниста, - сказал Климент Ефремович. - Сойдем ненадолго.
- В чистом поле?
- Разомнемся, пока ногами двигать не разучились. То на колесах, то верхом, а ноги для чего?! - посмеивался Ворошилов; и не понять было: вроде шутит, а голос серьезный.
- Ладно, только побыстрее, - кивнул Семен Михайлович, удивляясь такому чудачеству.
По обдутому косогору, по зализанному ветром твердому насту поднялись к будке обходчика, стоявшей почти вровень с попыхивающей трубой паровоза. Домик был маленький, аккуратный, похожий на украинскую мазанку, только крыша казенная, как на всех железнодорожных постройках, с двумя крутыми скатами. Вблизи заметны были следы запустения. Заборчик уцелел лишь с одной стороны, сарай покосился. Стена была закопчена, изрыта мелкими ямками: наверно, стегануло по ней шрапнелью.
- Без мужского догляда, - произнес Климент Ефремович. - Словно и не живет никто.
- Отпечатки сапог. Не нонешние, правда, - показал Семен Михайлович.
Ворошилов задержался у двери, словно колеблясь, переступать ли порог? Взялся за ручку.
- Давно я здесь не бывал, а все тянет.
- На Донец, что ли? - Буденный, подкручивая колесико бинокля, осматривал окрестности. А Климент Ефремович будто и не слышал его, продолжал свое:
- Сколько тут босыми ногами избегано. На речке барахтался с ребятишками. Самое светлое... Думал, уж и не попаду, а вот довелось!
- Что? - не понял Буденный, занятый своим делом.
- Родился я здесь, Семен Михайлович.
- Вот те на! - выпавший из рук бинокль закачался на ремешке. - Прямо, значит, вот в этой хате?
- В этой самой будке, - подтвердил Ворошилов. - Появился на свет белый четвертого февраля тысяча восемьсот восемьдесят первого года, если по новому стилю. Мать говорила потом, что день холодный был, с утра снежок шел. Как и сегодня...
- Ну и ну! - все еще удивлялся Буденный. - А я в толк не возьму, какой-то ты нынче странный... Достиг, значит, своего места... Ты, это самое, побудь здесь, а я схожу, узнаю, как там...
Пошел к поезду, забыв даже придерживать тяжелую шашку. Ножны ее чертили зигзаги на плотном снегу. Климента Ефремовича тронула взволнованность и деликатность Буденного, который вроде бы почувствовал: захотелось человеку побыть одному.
С утра-то Климент Ефремович думал: некогда сейчас рассусоливать, предаваться воспоминаниям. Поглядит, пела ли будка, и назад. А как увидел старый домишко, а ж горло перехватило. И совсем не нужно, чтобы кто-нибудь стоял рядом.
Осторожно, с некоторой даже робостью, приоткрыл скрипучую дверь, напряженно пытаясь представить себе, что было там, за ней, в давние годы, однако ничего не нашлось в его памяти. Мал был в ту пору... Вспоминаются меловые кручи в зеленой окантовке лесов, темные, таинственные омуты, манящие прохладой, до дна пронизанные солнцем сверкающие перекаты... А сторожка не вызывает никаких картин, никаких воспоминаний. Совсем еще ребенком уехал отсюда.