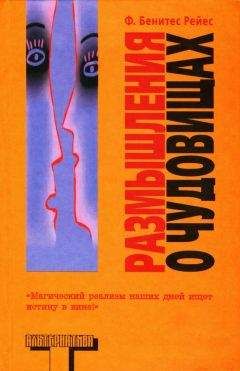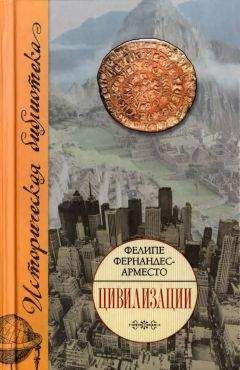Юрий Давыдов - Сенявин
«Надышаться» мешала Россия. Она застила чуть не половину небосклона. Правда, там, в Петербурге, очень и очень обеспокоены встречами лорда Ярмута с Талейраном: если Англия отступится, Россия изолирована. (Пруссия не в счет, с нею можно и должно управиться скорехонько.) Остается какой-то странный упрямец на Средиземном море. Но разве даже самый храбрый и самый упрямый адмирал в силах противостоять своему монарху? Пустое! Да вот извольте-ка: сюда, в Париж, направляется статский советник, который, кажется, уполномочен возвратить Которскую область австрийцам. А те лишь «промежуточная инстанция». И стало быть, эта глупая, ни на что не похожая сумятица с Балканским плацдармом разрешится благополучно.
Действительно, в те июньские дни, когда Сенявин дрался с Лористоном и Молитором под Дубровником, когда Сенявин не пускал ни Лористона, ни Молитора в Которскую область, в те дни в Париж поспешал пухлолицый, чуть горбоносый и весьма упитанный статский советник Петр Яковлевич Убри. И действительно, он имел полномочия относительно Которо, Ионических островов, Дубровника, словом, вправе был решить судьбу Сенявина и сенявинцев, но лишь затем и для того, чтобы выведать, как обстоит дело с англо-французским сближением.
Статский советник приехал в Париж на исходе июня. Князь Беневентский, он же Шарль-Морис Талейран, имея точные указания Наполеона снабжать Убри неточной информацией, тотчас принялся обхаживать Петра Яковлевича.
А Петр Яковлевич был просто-напросто исполнительным чиновником, столь же годным для дипломатии, как и для службы в любом другом казенном ведомстве. Где ему было объегорить талантливого дельца «преступного вида»?
Талейран так его опутал и так запутал, что статский советник подмахнул условия, обязывающие Россию убрать войска с Балканского полуострова, а в Ионическом архипелаге сохранить (да и то временно) лишь незначительный гарнизон.
Еще не просохли чернила на официальном документе, как угоревший Петр Яковлевич уже строчил Сенявину: «Честь имею сообщить вам, что, согласно полномочиям, данным мне его величеством императором, нашим августейшим государем, я подписал сегодня окончательный мирный договор между Россией и Францией, заключающий в себе условия, набросанные в прилагаемой выноске. В силу этого имею честь послать вам настоящее формальное требование приступить немедленно к истолкованию сих различных статей в согласии с командующим французскими войсками, который доставит вам это письмо. Тем более приглашаю ваше превосходительство поспешить с этими мерами, что задержка с вашей стороны может нарушить спокойствие различных государств Европы».
Не сомневайтесь: главный директор почт мосье Лавалет, бывший адъютант Наполеона, назначал для доставки таких депеш лучших лошадей и лучших почтарей!
А на другой день «политик», указавший Сенявину, как ему поступать, и грозивший ему неприятностями, этот самый «политик» признавался: «Французское правительство так наседало на меня, что я согласился подписать окончательный договор между Францией и Россией».
Статский советник ни в первом, ни во втором случае даже и не обмолвился, что договор-то прелиминарный, предварительный. А Наполеон с Талейраном отлично знали, что в дипломатической практике существует такое понятие, как ратификация, и что стоит Петербургу узнать правду о висевшем на волоске призрачном франко-английском сближении, как все усилия по одурачиванию господина Убри пойдут к чертям. Надо было быстренько сунуть под нос русскому главнокомандующему копию договорных условий.
Торопливость французов была поистине лихорадочной. Так, например, принц Евгений, пасынок Наполеона, находившийся в Северной Италии, в один и тот же день дважды писал Сенявину и дважды гонял к нему гонцов.
В полдень – письмо: «Господин адмирал, спешу предупредить вас, что только что заключен мир между его величеством императором французов, королем Италии, моим августейшим отцом и повелителем, и его величеством императором всея России. Договор подписан 20 июля…
В нем предусмотрено немедленное прекращение военных действий, о чем вы получите предписание с курьером, которого должны послать к вам из Парижа на другой же день. Я, однако, счел своим долгом предупредить вас об этом и прошу сообщить сие французскому командующему, который окажется в непосредственной близости от вас, чтобы все военные действия прекратились тотчас, во избежание напрасного кровопролития».
Вечером – еще письмо: только что получены депеши «господина де Убри», адресованные вам, то есть Сенявину; равно получены и депеши для Лористона; документы передаст и вам и Лористону «мой адъютант полковник Сорбье».
8
Что требовалось от дипломата?
«Быть красивым малым.
Принадлежать, по возможности, к знатному роду.
Иметь состояние.
Обладать светским лоском.
Уметь разговаривать с женщинами и обольщать их, в особенности обольщать!»
Может, еще что-нибудь? О нет, «остальное было уж не так важно. Молодой человек проходил испытательный срок в министерстве, где его обучали в первую очередь искусству кланяться».
Сенявин не соответствовал ироническим «кондициям» Мопассана. А дипломатическое поприще досталось Дмитрию Николаевичу столь сложное, запутанное, зыбкое и чреватое опасностями, что, право, и дюжину дипломатов бросило бы в озноб.
Первое, что встало с мгновенной и беспощадной ясностью: росчерком пера губилось громадное предприятие! Все летело вверх тормашками – достигнутое и то, что вот-вот было б достигнуто! О, какой взрыв чувств – ведь Сенявин не обладал ни ледяным цинизмом, ни горячечным карьеризмом, а был наделен, как говорил Павел Свиньин, «пламенной душою».
В подобных случаях беллетристы чаще всего живописуют муки бессонницы, как актеры, изображая волнение, неизменно хватаются за папиросы и ломают спички. Не мне судить, что услышали и чего не услышали, что увидели и чего не увидели стены адмиральской каюты, отделанной с той благородной и строгой изысканностью, какую умели придавать каютам военных парусных кораблей питерские краснодеревцы. Несомненно, однако, что «пламенная душа» Дмитрия Николаевича не осталась недвижной. И должно быть, мелькнуло в уме: живет в Санкт-Петербурге Адам Чарторижский. Сенявин знал: со-ло-мин-ка… Но не знал он, что князь, всемилостивейше удаленный, всемилостивейше заменен бароном фон Будбергом. Современный нам исследователь несправедливо обзывает Будберга «покладистым»; рижанин недолго сидел в министерском кресле. Но Дмитрий Николаевич об этом не ведал, как не ведал и об отставке Чарторижского, сторонника решительной поддержки греков и славян.
И еще была мысль (не догадка – капитальное убеждение), мысль Сенявину путеводная и определяющая, мысль о Наполеоне, о наполеоновской Франции как неизбежных и недалеких, грозных и удачливых врагах его, Сенявина, родины.
«Слепой только не увидит, когда внезапное облако налетит и затемнит солнце. Но у всех тогдашних государственных людей вещественные глаза были светлые. Отчего же не видали они, какая туча собирается и скопляется на Россию?» – задним числом негодовал Глинка.
Мы вправе ему возразить: нет, Сергей Николаевич, видели, некоторые-то видели. Правда, лишь подлинно государственные люди, а не те, что грели мягкие места на местах государственных.
Сенявин (как, например, и Кутузов) отчетливо различал, какая «туча скопляется». Различал и теперь, в шестом году, различал и потом, когда угодил под начальство к самому Наполеону. И этот «недальновидный», по определению злопыхателя Вяземского, командующий рисковал головой, но, всем чертям назло, «не двигался за Наполеоном».
Сказать по правде, Сенявин, начиная осаду Дубровника, уже был осведомлен о намерении Александра возвратить Которскую область австрийцам. Переубедить царя адмирал рассчитывал развитием которского успеха.
Расчет этот лишний раз обнаруживал в Сенявине человека, для которого польза дела стояла выше автоматики бездумной «исполнительности». А князь Вяземский опять заскрипел зубами: Сенявин-де положил не отдавать Которо, «видя в том личные свои выгоды и ссылаясь, что сие повеление государя последовало еще прежде, нежели государь знал о занятии Рагузы (Дубровника. – Ю. Д.) французами». Господи, кого только не обвинишь «в личных выгодах», глядя сквозь очки ненависти!
А слухи о намерениях русского царя уже текли среди которцев быстрее и шумливее горных ручьев. Сенявин сообщал в Петербург: «Воображение, что они принуждены сделаться австрийскими подданными, а потом, к вящему своему несчастью, порабощены будут и французами, крайне угнетало их дух, и они от сего потеряли всю свою бодрость против французов».
С прибытием парижских известий «бодрость потеряли» и черногорцы. Они потянулись к родным вершинам, их биваки «на высотах рагузинских» опустели. А из Франции уже направился в Далмацию генерал Мармон во главе пятнадцати тысяч солдат и офицеров.