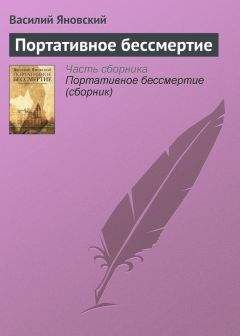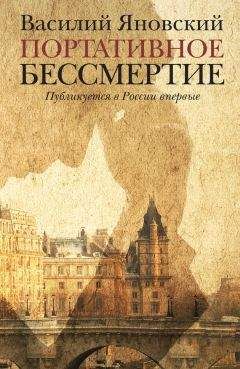Василий Яновский - Поля Елисейские. Книга памяти
После одного такого вечера я, жертвуя веселым обществом на Монпарнасе, предложил корпевшему над стульями Фондаминскому помочь ему привести в порядок хозяйство. Зензинов подсчитывал кассу. Илья Исидорович с благодарностью согласился, но через минуту, покосившись в мою сторону, сказал:
– Идите, идите, я знаю, вам хочется к друзьям.
И я убежал от общественной нагрузки, не выходило это у нашего поколения.
Зензинов был всегда рядом в таких случаях: молчаливый и часто хмурый, скептически настроенный. Думаю, что если бы он оказался во Франции во время последнего похабного мира, то судьба Фондаминского (или самого Зензинова) сложилась бы по-иному.
«Круг» собирался через понедельник… Квартира Фондаминского на rez-de-chaussée [59] . Входная дверь вела в маленькую прихожую, дальше столовая, где за длинным столом мы пили чай и ели сладкие булочки до заседания. Из столовой лестница вела в подвал: там кухня и комнаты для прислуги. Следующая за столовой проходная комната Зензинова: кровать, письменный стол, машинка и пачка американских сигарет. На этом «ремингтоне» Зензинов днем писал свои воспоминания о неудачной любви, а может быть, вообще, о неудачной жизни. Я раза два опустошал его запас сладких папирос «Локки Страйк», и с тех пор он больше не оставлял пакета на виду.
У меня, писателя, в Париже не было своей пишущей машинки. (А. Толстой увез «ундервуд» М.С. Цетлиной.)
Когда я заканчивал повесть или рассказ, то обычно шел к Юрию Алексеевичу Ширинскому-Шихматову, главе Пореволюционного клуба и редактору «Утверждений». Его женой была вдова Бориса Савинкова, Евгения Ивановна. В их доме я провел много волнующих и поучительных часов, дней, ночей, погружаясь в живое прошлое двуглавой России.
Отец Юрия Алексеевича был обер-прокурором святейшего Синода, членом Государственного совета, он имел привычку повторять: «Правее меня – стенка!»
Юрий Алексеевич, бывший правовед и кавалергард, проделал поворот на все 180 градусов: от «правой», почти черносотенной «стенки», до «левой», пореволюционной, национал-максималистской. Евгения Ивановна, княгиня Савинкова, как мы ее иногда называли, являлась живым преданием эпохи динамита и генерал-губернаторов; здесь имена Хомякова, Леонтьева, Каляева, Сазонова произносились словно клички кузенов.
Вот в этом доме охотно снабжали пишущей машинкой, и я мог ею пользоваться без ограничений.
Теперь, бывая так часто у Фондаминского, я, естественно, счел уместным попросить машинку на денек.
– Ну что вы, что вы, – урезонивал меня Фондаминский, – разве вы не знаете, что велосипед, фотографический аппарат и пишущую машинку никто никому не одалживает.
Я этого, к счастью, не знал. Кроме машинки князя Ширинского, я обычно брал еще велосипед – у доктора З… (К фотоаппаратам я питал некого рода отвращение.) По-видимому, такое благоговение перед произведениями индустрии было типичным для социалистов аграрных стран.
За проходной комнатой Зензинова находился огромный кабинет Фондаминского; там, на кожаном диване, он спал, постлав себе простыню. Из этого кабинета можно было выйти прямо в общий коридор дома, а затем на улицу, не проходя через парадную дверь квартиры. Чем мы иногда пользовались, так как у Фондаминского собирались разные фракции, порой враждебные.
Я обычно приезжал на велосипеде, с юных лет тяготея к независимости и страдая от мещанского расписания последних поездов метро. В свитере и брюках «гольф» я вносил свой велосипед в маленькую прихожую, раскрасневшийся, внешне активный и бодрый. Илья Исидорович меня несколько раз встречал одним и тем же возгласом:
– Как это вам удается всегда сохранять такой энергичный вид? (или что-то в этом духе).
Для него было загадкою, как можно переносить, не возроптав, наш образ жизни, полный лишений. Думаю, что если бы он очутился в эмиграции с самого начала нищим и одиноким, то не выдержал бы испытаний и, вероятно, кончил бы самоубийством.
В его квартире доживала век пара сиамских кошек, любимцы покойной Амалии Осиповны. Насквозь избалованные, таинственно-развратные аристократические существа, явно бесполезные, но претендующие на особое внимание.
Я вырос среди зверей и домашних животных, люблю их и понимаю, однако стою за строгую иерархию, считаю ее справедливой: никакая демократия здесь не уместна. Собака или кот не должны сгонять человека с лучшего места; я бы даже сказал, что им полагается уступать нам первенство.
Надо было видеть удивление, даже возмущение этих сиамских высочеств, когда я их сметал с удобного кресла и сам устраивался в нем… Фельзен только посмеивался, как расшалившийся гимназист: «С ними, вероятно, еще ни разу в жизни так грубо не обращались», – произносил он своим тихим, твердым, с дружескими интонациями голосом.
Когда народ сходился, сиамцы исчезали внизу, где кухня.
Чай разливал Зензинов. У них был маленький самоварчик с краном, подвешенный над спиртовкою, – его постоянно доливали кипятком из большого чайника: спиртовка поддерживала температуру и мурлыканье. Фондаминский озабоченно спрашивал, обращаясь ко мне или к Софиеву:
– Вам, конечно, покрепче! – что меня даже удивляло.
Только постепенно я догадался: крепкий чай был для ряда поколений русских интеллигентов, от петрашевцев до эсеров, чем-то вроде гашиша… И Фондаминский представлял себе, что мы в России пили бы чай покрепче. Увы, я не укладывался в традицию и по вечерам пил только винцо или коньяк. (Коньяк, по понятиям наших гурманов, даже Бунина, попахивал клопом.)
Постепенно все собирались; отпившие уже чай переходили в кабинет, уставленный дорогими сердцу книгами, их потом выманил у Фондаминского очаровательный немецкий полковник. Каждый постоянный член «Круга», в общем, имел свой любимый угол дивана или привычный стул, где и располагался.
– Бердяев через полтора часа должен уезжать, – оповещал нас Фондаминский со своего председательского места за письменным столом. – Так что, если мы желаем, чтобы он успел всем возразить, надо ограничить время выступлений.
Вот как Адамович в Table Talk («Новый журнал», № 64, 1961 год) описывает вечер «Круга»:
«Собрание у Ильи Исидоровича Фондаминского-Бунакова. Поэты, писатели – “незамеченное поколение”. Настроение тревожное, и разговоров больше о Гитлере и о близости войны, чем о литературе. Но кто-то должен прочесть доклад – именно о литературе.
С опозданием, как всегда, шумно, порывисто входит мать Мария Скобцева (в прошлом Кузьмина-Караваева, автор “Глиняных черепков”), раскрасневшаяся, какая-то вся лоснящаяся, со свертками и книгами в руках; протирая запотевшие очки, обводит всех близоруким, добрым взглядом. В глубине комнаты молчаливо сидит В.С. Яновский.
– А, Яновский!.. Вас-то мне и нужно. Что за гадость и грязь написали вы в “Круге”! Просто тошнотворно читать. А ведь я чуть-чуть не дала экземпляр отцу Сергею Булгакову. Хорошо, что прочла раньше… Мне ведь стыдно было бы смотреть ему потом в глаза!
Яновский побледнел и встал.
– Так, так… Я, значит, написал гадость и грязь? А вы, значит, оберегаете чистоту и невинность отца Сергея Булгакова? И, если не ошибаюсь, вы христианка? Монашка, можно сказать, подвижница? Да ведь если бы вы были христианкой, то вы не об отце Сергее Булгакове думали бы, а обо мне, о моей погибшей душе, обо мне, который эту грязь и гадость… так вы изволили выразиться?.. сочинил! Если бы вы были христианкой, вы бы вместе с отцом Сергеем Булгаковым ночью прибежали бы ко мне плакать обо мне, молиться, спасать меня… а вы, оказывается, боитесь, как бы бедненький отец Сергей Булгаков не осквернился! Нет, по-вашему, он должен быть в стороне, и вы вместе с ним… подальше от прокаженных!..
Мать Мария сначала пыталась Яновского перебить, махала руками, но потом притихла, сидела, низко опустив голову. Со стороны Яновского это был всего только удачный полемический ход. Но по существу он был, конечно, прав, и мать Мария, человек неглупый, это поняла – вроде как когда-то митрополит Филарет в знаменитом эпизоде с доктором Гаазом».
Адамович почти точно передает сущность нашего спора. Он ошибается только в одном: это не было позою с моей стороны, не было «удачным полемическим ходом». Мы тогда так действительно думали и чувствовали.
После собрания, пропустив последнее метро, оставались еще самые отчаянные полуночники, а также аборигены 16-го аррондисмана, вроде Фельзена, Вейдле, или «берлинцы», квартировавшие у Фондаминского: Сирин, Степун. Опять появлялся чай, покрепче; хмурый Зензинов исчезал в своей проходной комнате.
Постоянно присутствовали на этих вечерах Адамович, Иванов, Фельзен, Вильде, Яновский, Софиев, Варшавский, Червинская, Кельберин, Мамченко, Терапиано, Юрий Мандельштам, Алферов, Зуров, Вейдле, Мочульский, чета Федотовых, мать Мария, Савельев, Гершенкрон, С. Жаба, Н. Алексеев, Шаршун, Емельянов, Ладинский… не припомню всех. Изредка появлялись Керенский, Бердяев, Шестов, Франк, Цветаева, Степун, Извольская, Штейгер, Кузнецова, Андреев, Сосинский.