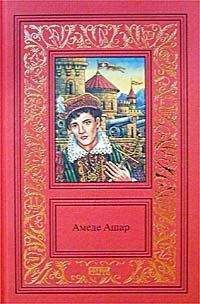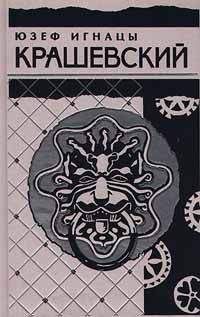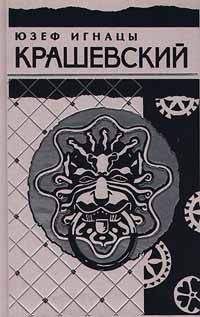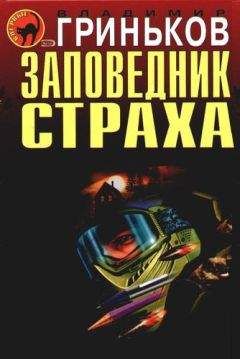Павел Шестаков - Омут
— Да вы и вправду пессимист. Вы даже не заметили, что у вас была выигрышная позиция.
— Да ну ее к лешему! — Воздвиженский смешал фигуры. — Зато вы оптимист. Предсказываете четверть века войн!
Лично ему предстояло прожить меньше. Но пока они были живы, сидели за шахматной доской, на которой Воздвиженский только что смешал фигуры, символы вечных сражений, и один мечтал о прекращении кровопролитий, не видя в них ничего, кроме слепой игры инстинктов и самолюбий, а другой ждал и готовился к новым битвам, чтобы убить множество людей во имя идей, которые считал гуманными и справедливыми.
В эту минуту к столику и подошла молодая женщина, которую Воздвиженский знал как сестру милосердия.
Барановский встал.
— Добрый вечер, Сонечка. Вы уже освободились?
— На сегодня да.
— Как ваши страждущие?
— Они страждут.
— А вы по мере возможности стремитесь облегчить их участь?
— Мои возможности невелики.
— Я слышал о вас много хорошего, — сказал Воздвиженский, тоже поднимаясь.
— Вы знакомы? — спросил Барановский.
— Соня, — просто протянула руку сестра.
— Я рад. Я часто вижу вас…
— Спасибо.
— Вы с нами, Роман Константинович?
— Был бы счастлив проводить. Но, пожалуй, займусь еще немного в лаборатории. Деликатные обстоятельства. К моей хозяйке вернулся сын, которого считали погибшим. У него здесь невеста, и я не хотел бы сегодня быть лишним среди близких людей.
— Считали погибшим? — переспросил Барановский.
— Да. Редчайшая и счастливейшая неожиданность.
— Мне помнится, вашу хозяйку зовут госпожа Муравьева?
— Да, именно так.
— Помнится, она заходила к вам сюда?
— Однажды.
— Я очень рад за нее. В наше время счастливые случайности так редки.
— Я тоже очень рад. Юрий очень приятный юноша.
— Это ее сын?
— Да.
— Прошу вас, Роман Константинович, передайте им мою радость. Когда-то на фронте я знавал офицера с такой фамилией. Хотелось бы надеяться, что это он.
— Вы хотите передать…
— Только то, что я вам сказал, Кланяйтесь матушке.
— Спасибо, обязательно.
И они разошлись.
Воздвиженский вернулся в клинику, а Софи и подполковник вышли на жаркую улицу.
— Вы взволнованны, Алексей Александрович.
— Не скрою, да.
— Это опасно?
— Напротив. Может быть, удача.
— Вы действительно знали этого офицера? Или его однофамильца?
— Я знал его.
— И это наш человек?
— Вот этого утверждать не могу. Когда мы расстались, если можно так сказать в данном случае, он стоял под дулами красноармейских винтовок. Я не знаю, почему он жив. Но я надеюсь… Но пока оставим это. Здесь требуется серьезная проверка. Что у вас? Это сейчас главное.
— Он согласен.
— Его условия?
— Пришлось поторговаться.
— И вы уступили?
— Еще бы! Он обещал мне жизнь.
— Впрямую?
— Абсолютно.
— Итак?
— Мы делим семь долей из десяти, но я думаю, что больше.
— Он убьет их?
— Я уверена.
Барановский посмотрел на Софи.
— Я понимаю вас, Алексей Александрович. Он убьет и меня.
— Нет.
— Я убью его?
— От этой грязной работы вы будете избавлены. Но риск остается. Не будем лицемерить. Я восхищен вашим мужеством.
— Спасибо.
— Верьте мне.
— Всякое может быть. Но я готова ко всякому. Я даже рада его намерению.
— Рады?
— Да. Тогда наша совесть будет чиста, — сказала она жестко.
* * *Таня вошла в полутемную комнату.
От яркого солнца ее защищали ставни-жалюзи, от них по полу тянулись две полосатые дорожки. Юрий стоял посреди комнаты, но оба боялись сделать решающий шаг. Нет, совсем не так представляли оба эту минуту, когда прощались в слезах — он, выступая в победоносный поход на Москву, она, храня под сердцем его ребенка.
Два года прошло с того дня.
А кажется, что сто лет. И встреча — не конец разлуки, а начало нового, неизвестного, после разлома в жизни. Не состоялся поход, обрушилось все, не было больше счастливых упований, он пережил смерть, она — рождение новой жизни. Вот что осталось позади. Но сблизило или разделило, отторгло навсегда?..
И теперь оба, шагнув друг к другу, не знали, сделать ли еще один, последний шаг…
Но наконец решились и протянули друг другу руки.
Он положил свою ей на плечо и не узнал его. Два года назад оно было крепким, теперь Юрий ощутил вздрагивающую от волнения косточку.
— Таня! Я не вижу тебя.
И он повернулся к окну, чтобы распахнуть через форточку ставни.
— Нет, Юра! Нет!
— Почему?
— Я подурнела.
— Что ты!..
— Это правда.
Ей было стыдно своей поблекшей в муках внешности, и она совсем не ощущала его отцом своего ребенка.
— Таня!
— Да, Юра. Это я.
— Неужели мы вместе?
Он сказал фразу, которая может звучать восхищением перед чудом, а может быть и обычной банальностью. Сейчас она не была ни, тем, ни другим, в ней отразилось лишь тревожное недоумение. Он смотрел и не узнавал. Конечно, она изменилась и в самом деле подурнела. Но было и что-то еще, более важное. Изменилась не только внешность. Перед ним стоял уже не тот человек. А к этому он не был готов. И он растерялся.
Порыва не получилось.
— И все-таки мы вместе, — сказал он еще раз, настаивая на очевидном, может быть, потому, что не только ее, но и своих чувств не узнавал.
Он растерялся, в сознании как-то не укладывалось, что эта повзрослевшая, похудевшая женщина должна была стать матерью его сына или дочери, и, вместо того чтобы сразу спросить о ребенке, он сказал:
— Почему ты не пришла сразу?
— Я испугалась.
— Чего?
— Ведь я почти два года считала, что тебя нет. За это время так много произошло…
— Ты забыла меня?.
— Что ты!.. Но я привыкла не надеяться.
— И кто-то стал между нами?
Она ответила слишком поспешно:
— Нет, нет!
— Ты сказала так, будто это есть.
— Я не обманываю тебя.
— Прости. В самом деле, прошло много времени. Ты могла и разлюбить.
Наверно, он ждал решительного «нет», но Таня, скованная главным, что предстояло в их разговоре, не могла больше говорить о том, что только отдаляло неизбежную минуту.
— Юра. Почему ты не спрашиваешь о нашем сыне?
— Сыне?!
— Да. Почему?
— Я не знал, как задать этот вопрос. Мама сказала, что ты одна, что у тебя нет ребенка. И я подумал… Я сам не знаю, что я подумал. Я ждал, что скажешь ты. Значит, мама до сих пор ничего не знает?
— Она не знает.
— А ребенок есть?
— Его нет, Юра.
Она едва шевелила губами, но он расслышал.
— Что произошло?
— Он родился мертвым.
Как ей хотелось знать, что испытал он в эту минуту!..
Юрий думал о ребенке все эти долгие месяцы. Сначала он только радовался ему, веря, что ребенок, навеки соединив его с Таней, сломает навсегда тот лед, что возникал постоянно в их трудных отношениях. Но потом, когда он потерпел поражение и оказался пленником в собственной стране, когда стало ясно, что жизни, о которой они мечтали, не будет, мысли его изменились, и он уже думал о том, кому предстоит родиться, со страхом, казня себя за то, что погубил Танину жизнь. Но вот кончилась война, он выжил и был отпущен домой, где ждали его родные люди, чтобы вместе начать еще неведомую новую жизнь, в которой предстояло найти свое место. И теперь уже в этом предстоящем и конечно же нелегком поиске ребенок, которого Юрий, никогда раньше не испытывавший отцовских чувств, не видел и не знал даже, мальчик это или девочка, мог быть только помехой. И, услыхав, что такой помехи нет и не будет, Юрий, стыдясь себя, испытал чувство облегчения.
Он опустил голову, чтобы скрыть в полумраке это скверное чувство, и спросил:
— Как же это случилось?
— Я уехала в Вербовый, на родину.
— Почему?
— Здесь почти все время шли бои.
Она не хотела говорить о Максиме, щадя Юрия.
— И ты рожала в деревенской хате? И ребенка принимала повивальная бабка-знахарка?
— Да.
— Но почему ты не сказала маме?
— Ей было и так тяжко. Ведь ты не прислал нам ни одной весточки.
— Я не знал, что вам сообщат о моей смерти. И не знал, что со мной будет.
— Я не упрекаю. Я рассказываю, как все было. Потом закрепились красные…
— Это они!
— О чем ты?
— Они убили нашего сына. Если бы ты не была вынуждена бежать, если бы ты легла в клинику, если бы ребенка принимали врачи, он был бы жив!
Юрий прижал пальцы к вискам.
— Что ты, Юра! Такие несчастья случаются везде.
— Не говори так. Это сделали они.
И он опустился на диван. Он выглядел убитым и страдающим, но мысль связать смерть ребенка с победой красных успокаивала, позволяла подавить стыд гневом, и он разжигал этот гнев.