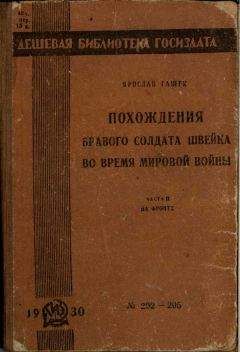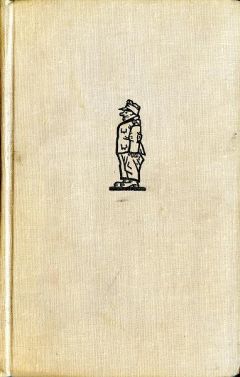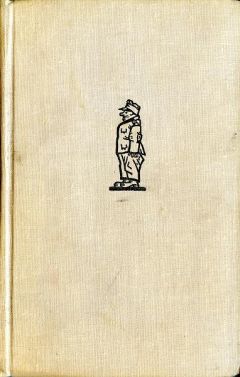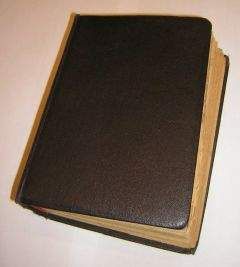Даниил Мордовцев - Сагайдачный. Крымская неволя
Вдруг Небаба, стоявший на чердаке, рядом с Сагайдачным и писарем Мазепою, стал к чему-то особенно приглядываться.
— А ну, пане писарю, — обратился он к Мазепе, — у тебя очи молодые, мелкое письмо читают, — погляди-ка что оно там такое мельтешит.
— Где, пане Филоне? — спросил Мазепа.
— А вон там... чернеет что-то на море.
Небаба показал на что-то, черневшее левее Кафы в море. Мазепа приставил ладонь выше бровей.
— Вижу, вижу: либо татары-рыбалки едут, либо что другое.
— А не галера?
— Нет, не галера.
— Да то, дядьку, каик [Каик — небольшая весельная лодка] татарский, — отозвался снизу Олексий Попович, который снова начал скучать без горилки, хоть недавно и каялся в своих грехах и который уже знал Крым, изведав крымской неволи.
— Да каик же, я и сам вижу, — подтвердил Сагайдачный.
Черные задумчивые глаза его вдруг блеснули какой-то мыслью. Он приложил руку ко лбу, как бы что-то раздумывая, припоминая или не зная, на что решиться. Но потом он выпрямился и быстро оглянул свою флотилию, тихо качавшуюся на бирюзовой поверхности моря.
— А нуте, хлопцы, за весла! — громко сказал он, хлопнув в ладоши.
Общее движение и изумление было ответом на этот оклик. Гребцы бросились к веслам. На всех чайках встрепенулось товариство.
— Панове отаманы и все войсковое товариство! — отчетливо проговорил старый гетман.
— Стойте тут вы на стороже, дожидайтесь меня, а я хочу «языка» добывать.
— Добре, добре, батьку! — отвечали со всех чаек.
— Мочи весла, хлопцы! Гайда! — скомандовал гетман.
— Догоняйте черную муху, что вон там, на море, села! — пояснил он, показывая по тому направлению, где вдали чернелся предполагаемый татарский каик, небольшая весельная лодка.
Гребцы омочили весла в море, и чайка понеслась птицею. Скоро черная точка стала вырисовываться яснее и яснее. Она, видимо, двигалась к Кафе. Лениво, чуть-чуть заметно поблескивали на солнце два весла, и вместе с ними так же лениво покачивалась человеческая фигура. Это, действительно, был каик.
Чайка догоняла его. На каике заметили это, но не прибавили ходу, вероятно, полагая, что это плыла в Кафу турецкая кочерма или фелука, а то и другая какая-нибудь большая морская лодка.
Но вот чайка уже у самого предмета погони. Хома, который усердно работал на веслах, расстегнув от жары сорочку до самого пупа, поглядывал на каик, коварно улыбался и подмигивал веселому Грицку, с которым успел совсем подружиться.
— Вот дурень! — ворчал он, делая хитрое лицо.
— Вот испугается, как меня увидит!
— Где уж такого не испугаться! — подтвердил сидевший тут же усатый Карпо Колокузни.
— Ты такой страшный, что тебя и мать испугалась и дурнем родила.
Когда уже чайка была бок о бок с каиком, на последнем послышался крик испуга.
— Алла! Алла! — завопил татарин, опуская весла, и стал метаться по каику.
— Казак, казак! Со дна каика испуганно вскочили еще две фигуры, по-видимому, заспавшиеся татары.
— Алла! Алла! Алла-акбер! — повторились отчаянные возгласы.
Но казацкий багор уже зацепил каик за борт, и жилистые руки Карпа тащили его к чайке.
— Не кричите! Не войте, аспидовы цуцики! — окрикнул он пленников.
Скоро несколько казаков, в том числе и Хома, прыгнув с борта чайки в каик, тотчас же перевязали своими поясами пленников, которыми оказались два старых татарина и один молодой.
— Добре, детки! — похвалил Сагайдак. — В чайку их!
Здоровенный Хома, схватив в охапку разом двух татар, поднял их к борту чайки. Те отчаянно метались и колотились в его засученных, волосатых, как собачьи лапы, руках.
— Да не вертитесь, аспидовы, а то утонете, — уговаривал он своих пленников.
Их подхватили другие казаки с борта чайки и втащили к себе. Хома нечаянно потерял равновесие и, словно бревно, бултыхнулся в море.
— Ой, лишечко! Хома утонул! — послышались испуганные голоса.
Но молодец Хома не утонул. Его огромная с русым чубом голова показалась на поверхности, и он, весь красный, фыркал, как купаемый казаком жеребец.
— Вот я ж говорил, чтоб они, аспидовы, не вертелись! — ворчал он, цепляясь за весло.
Весло придержали, и он стал карабкаться на чайку, постоянно отплевываясь.
— Какая же поганая вода в море... соленая да горькая.
Пленных татар перетащили на чайку. Они испуганно поглядывали по сторонам, как затравленные собаки. Младший из них в отчаянье падал на колени и бормотал молитву, часто, даже слишком часто повторяя имя аллаха и безнадежно поглядывая на родные горы и зелень, заливаемые жаркими лучами солнца: он, казалось, мысленно прощался с ними. Старые татары тоже шептали что-то — конечно, прощались с жизнью и с своим прекрасным краем, думая, что эти усатые и загорелые шайтаны сейчас их пришибут.
В каике оказались корзинки с огурцами, вишнями, морковью и прочею зеленью. Видно было, что татары везли все это в Кафу на рынок, да слишком отбились от берега и попались в руки страшных гостей.
Сагайдачный, Небаба, Олексий Попович и некоторые из казаков заговорили с пленными по-татарски, и хотя иные с грехом пополам, но татары все-таки их понимали. Их допрашивали, кто теперь правит Кафою — кто там санджакует, сколько в крепости турецкого и татарского войска, есть ли на пристани цареградские военные и купеческие галеры и сколько их. На все это пленные отвечали большею частью незнанием или повторяли только «алла» да «алла-акбер».
Тогда Сагайдачный велел прибуксировать каик к своей чайке и ехать к флотилии. Там очень обрадовались привезенной добыче и бросились на каик, чтобы сейчас же полакомиться огромными зелеными и желтыми огурцами, вишнями да морковью; но Сагайдачный приказал ничего не трогать.
— Я сам повезу это добро на рынок, — пояснил он.
— Хочу сам в Кафе разузнать, почем там продают ковш лиха.
Небаба на эти слова моргнул усом, а Мазепа прибавил:
— Да оно, батьку отамане, лихо товар дешевый.
— А чтоб быть хоть на час купцом, надо купцом и одеться, — добавил Сагайдачный и, обратясь к казакам, стоявшим около пленных татар, сказал:
— А нуте, детки, разденьте их до самого татарского тела, чтоб было нам во что одеться, коли торговать задумали.
Казаки бросились раздевать татар. Несчастные, думая, что пришла их последняя минута, что их или в море бросят, или обезглавят, отчаянно защищались, бесполезно взывая к своему бородатому аллаху и его пророку. Но казаки были неумолимы: схватив их за руки и за ноги, они ободрали несчастных, как липку, и оставили голыми.
— Накиньте полог на татарское тело! — приказал Сагайдачный.
Несчастных приодели старыми полостями, которые служили и конскими попонами, а в татарское одеяние облачились: сам Сагайдачный, Небаба и Олексий Попович, как уже бывавший в турецкой неволе и хорошо понимавший, а при нужде и болтавший по-татарски. Казаки так и заливались от радости, глядя на это переодеванье.
— Вот татары, так татары! — хвалил Хома.
— Такие татары, что Хома испугался бы, коли б увидал их у себя на печи, — подзадорил его Карпо.
— Эге! Испугаюсь я лысого беса! — огрызнулся Хома, сушась на солнышке.
Одевшись совсем по-татарски и спрятав под татарскую же шапку свою седую чуприну, Сагайдачный на минуту задумался, а потом обратился к стоявшему тут же своему джуре:
— Ану, джуро, подай мою булаву.
Джура бросился с чердака и скоро явился с гетманскою булавою в руках. Сагайдачный, взяв из его рук знак своего гетманского достоинства, высоко поднял его над головою.
— Панове отаманы и все славное войско Запорожское! — громко, отчетливо произнес он на всю флотилию.
— Коли я завтра утром не вернусь до вас, чего боже борони, то добывайте без меня славный город Кафу и сами выбирайте себе батька, а теперь без меня пускай гетманствует пан писарь.
И он передал свою булаву Мазепе.
Через несколько минут татарский каик, под ровными ударами весел, быстро удалялся от казацкой флотилии. В каике сидели Сагайдачный, Небаба и Олексий Попович.
Казаки долго провожали глазами эту небольшую лодочку, пока она не превратилась в муху, а потом в едва заметную черную точку и, наконец, совсем исчезла из виду в туманной дали.
Каик между тем медленно приближался к Кафе. Все яснее и яснее вырисовывались на голубом небе и на горной покатости полукругом спускавшиеся к морю мрачные остроконечные башни крепости с их черными, как пасть зверя, зиявшими окошками и бойницами. Ниже шли, извиваясь змеею и делая крутые изломы к горе, такие же мрачные зубчатые городские стены с железными гаками, крючками, на которых часто вешали за ребра провинившихся христианских пленников, кости которых иногда целыми скелетами, объеденные червями и птицею, долго висели и стучали от ветра. Из-за этих мрачных стен выглядывали мечети с их круглыми, словно глазастыми, куполами, тонкие, как иглы, минареты с позолоченными полумесяцами наверху и узкими, черными, продолговатыми окошечками внизу. Оттуда же, из-за стен, выглядывали расположенные по склону горы в виде амфитеатра дома с плоскими крышами, оплетенные густыми гирляндами вьющейся зелени и иногда осененные темными, иконоподобными, словно бы вечно задумчивыми, кипарисами.