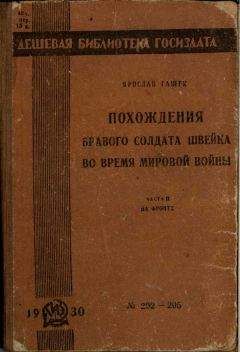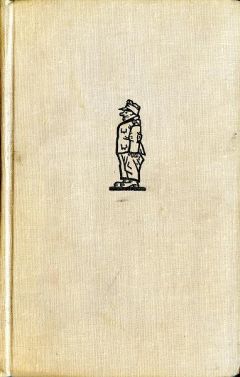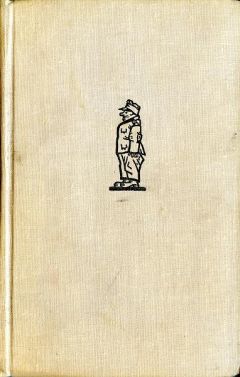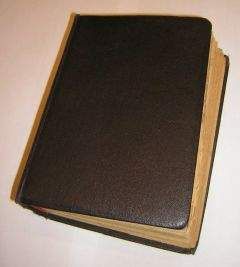Даниил Мордовцев - Сагайдачный. Крымская неволя
Олексий Попович тоже расположился недалеко от Карпа и от нечего делать, навалившись грудью на борт чайки, методически поплевывал в противное море, на котором запрещено пить горилку, и вспоминал свой родной Пирятин, где он шибко гульнул перед отъездом в Сечь: пьяный у отца и матери прощенья не взял, беспечно на улице на коне гулял, малых детей и старых вдов стременем в груди толкал, мимо церкви проезжал — шапки не снимал и креста на себя не клал...
— Смотрите, смотрите, дядьку, что вон оно такое? — испуганно спросил друкарь, показывая на море.
— Что такое? — лениво, не поднимая головы, спросил Карпо.
— Да вон — из моря выныряет...
— Э! Да то кони.
— Какие, дядьку, кони?
— Да морские ж кони, не наши.
Действительно, недалеко от чаек из моря выныряли на поверхность какие-то черные чудовища, плескали чем-то — не то хвостом, не то руками — и снова скрывались под водою. То были стада дельфинов, взыгрывавших на солнце и как-то странно кувыркавшихся среди морской зыби.
— А коли б нам деры не задало, — проворчал Карпо, расчесывая своим гребнем хвост тура.
— Какой деры, дядьку? — тревожно спросил Грицко.
— Коли б море не заиграло...
— А что такое?
— Хуртовина будет — буря.
— С чего ж ей быть, дядьку?
— А с того, небого, что вон те коники выигрывают.
Хотя никаких признаков бури, по-видимому, не замечалось, но слова опытного запорожца холодом прошли по сердцу молодых казаков. Они слышали от старых казаков об этих морских бурях, они слышали даже думу, как два брата-казака потопали в море и прощались заглазно с отцом и матерью — просили их помолиться за погибающих, вынести их со дна моря, и как потопал с ними третий казак — «чужий чужениця», у которого не было ни отца, ни матери и за которого некому было даже помолиться... Дума говорила, что они потопали в чужом море за свои грехи, за неуважение к старшим, за свою беспутную жизнь.
А дельфины все чаще и чаще показывали из воды свои отвратительные головы, черные, лоснящиеся спины и плесы. В воздухе марило... Над казаками, в вышине где-то, с жалобным криком пролетел сокол-«білозірець»... Что-нибудь да предвещают эти таинственные вестники!..
Но вот на востоке показалась туча. Она росла какими-то причудливыми образами, быстро менявшими свой вид, и, словно живая, вздувалась, ползла из-под горизонта все выше и выше и постепенно заступала собою небо. Поверхность моря, до этого совсем синяя, стала чернеть и местами как бы вздрагивать. Что-то, как бы живое, забегало по морю, дуло в разгоревшиеся лица казаков, свистело в снастях, трепало в воздухе взмокшие чубы гребцов...
— Гай-гай! — почесал у себя за ухом Небаба, поглядывая на небо.
Послышался вдали глухой, протяжный гул, как бы что-то тяжелое перекатывалось по горам.
Небо и море все темнели и темнели. По воде стали ходить какие-то белые гребни, которые, словно живые, словно белые дельфины, выскакивали из воды и снова ныряли... В воздухе опять пронесся жалобный крик сокола... Казацкие чайки все более и более ныряли и прыгали с гребня на гребень, держась, по возможности, в линиях...
На чердаке атаманской чайки показался Сагайдачный; он снял шапку и внимательно стал вглядываться в то, что совершалось кругом и в особенности впереди. Седой чуб его, как значок на бунчуке, трепался в воздухе...
— А быть чему-то, — тихо обратился он к стоявшему тут же Небабе.
— Быть, батьку, — отвечал Небаба.
Сагайдачный, вынув из кармана хустку — платок — махнул им в воздухе. Из числа казаков, сидевших в разных местах атаманской чайки, отделился один широкоплечий молодец и подошел к чердаку. Это был пушкарь.
— Дай вестовую, — сказал ему Сагайдачный.
Пушкарь молча пошел к передовой пушке, сильно покачиваясь от толчков, которым подвергалась чайка. Ветер крепчал в порывах, визжал, словно от боли, словно его кто самого гнал неволею...
Скоро грохнула пушка, но голос ее был так слаб перед ударившим тотчас громом, что казаки изумились. Между тем вся флотилия, услыхав вестовой выстрел, стала скучиваться к атаманской чайке и скоро совсем окружила ее.
— Панове отаманы и все верное товариство! — начал громким голосом Сагайдачный. — Вот сами видите, что бог дает нам роботу дуновением своим божиим... Это встает хуртовина — надо с нею бороться, и милосердный бог нам поможет, ибо мы идем за его святое имя, на ворогов креста господня... Держитесь докупы, чтоб нас по морю не раскидало, да держитесь против валов... А воды не бойтесь, — воду шапками козацкими выливайте. Чуете, детки?
— Чуем, батьку! — заревела вся флотилия.
Но другой рев — стихийный — осилил голос горсти храбрецов.
Началась буря, настоящая буря, неожиданная, внезапная, совсем шальная, какая только бывает на юге. Гром, сначала перекатывавшийся из края в край над совсем почерневшим морем, теперь, казалось, гвоздил тут, над головами казаков, и сверлил обезумевшее море среди сбившейся в кучу флотилии. Молнии, как изломанные раскаленные железные шины, стремительно падая в море, вот тут, у самых чаек, скрещиваясь, перерезывая одна другую, слепили глаза. Дождь хлестал так, что, казалось, само море опрокинулось и захлестывало собою тучи.
Казаки, привыкшие бороться с этою бешеною стихиею на Днепровских порогах, где так же их утлые чайки низвергались с высоты в пропасть, вертясь на вспененной поверхности, точно сухие листья, и потом вскакивая на седые буруны водопада, — казаки отчаянно боролись с взбесившимся морем и работали все до одного. Рулевой и гребцы смело отбивались от налетавших валов, разрезывая гребни водяных гор и падая в водные же пропасти, чтобы взлетать на седые гривы бушующих по морю чудовищ, а все остальное товариство работало черпаками, ведрами, шапками, выливая затоплявшую их воду... Удары грома, скрип и треск дерева — весел, рулей, чердаков, снастей, гул и клокотанье моря, свист ветра, ободряющие крики старых казаков — все это сливалось в один невообразимый концерт, в какую-то адскую музыку, от которой и у самых мужественных волосы шевелились у корней...
Но буря, видимо, осиливала. У несчастных гребцов руки отказывались служить. Некоторые весла вырвало из ослабевших ладоней и унесло в море, другие расщепало в куски. Вода в чайках все прибывала — сначала по щиколотки, потом все выше и выше..
— Господи! Погибаем! — послышались отчаянные стоны.
— Милосердный боже, помоги!
— Удержи хляби твои, отче вседержителю! Покарай меня одного! — упав на колени и подняв руки к грозному небу, молился Олексий Попович.
— Я один грешный!
— Братцы! Панове! Исповедаемся богу милосердному! — слышались голоса с разных сторон вместе с ревом бури.
— Исповедуй нас, батьку! — кричали с других чаек.
— Исповедуй, отамане! Потопаем!
Сагайдачный слышал эти отчаянные вопли. Он видел, что мужество начинает оставлять его храброе войско и что если оно покорится этому роковому моменту, то все погибло. Надо было во что бы то ни стало поддержать дух потерявших надежду и энергию. Зная хорошо привычки моря, он знал также, что эта нежданно-негаданно налетевшая на них бешеная буря так же неожиданно должна и стихнуть. Вот-вот скоро стихнет... Он это знал, он это видел по удаляющимся змейкам молнии, по более медленным ударам грома. Но надо выдержать этот последний момент — надо поддержать упадавший дух товариства... Он хорошо знаком был также с предрассудками людей, с которыми прожил полвека: это были дети, верившие сказкам... Он видел, что всем им в этот отчаянный момент вспоминалась дума о буре на Черном море, дума, распеваемая кобзарями по всей Украине и принимаемая всеми с глубокою верою, точно евангелие... И он решился действовать сообразно указаниям думы, тем более, что и казаки требовали исповеди, требовали того, о чем вещала дума — и он решился пожертвовать одним человеком для спасения всего войска...
Мгновенно решившись, он взошел на чердак и, держась за балясину, громко, подлинными словами думы, провозгласил:
— Панове братия мои и детки! Слушайте! Может, кто меж вами великий грех за собою имеет, что злая хуртовина на нас налегает, судна наши потопляет... Исповедайтеся, панове, милосердному богу, Черному морю, и всему войску днепровскому, и мне, отаману кошевому! Пускай тот, кто наиболее грехов за собою знает, в Черном море один потопает, войска козацкого не загубляет!
Многие упали на колени и подняли руки к небу.
— Я грешен! Я наибольше грехов знаю! — слышалось с разных сторон.
В этот момент выступил Олексий Попович. Он был бледен, мокрые волосы падали ему на лицо, по щекам текли слезы. Честный по природе, но горячий, несдержанный, он был жертвою своего порывистого сердца. Он сделался пьяницей, буяном, со всеми ссорился; но он и легко мирился и берег в себе честное сердце, что чаще приходится встречать у пьяниц, чем у непьющих...