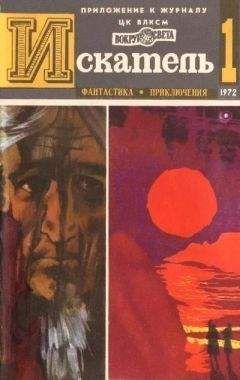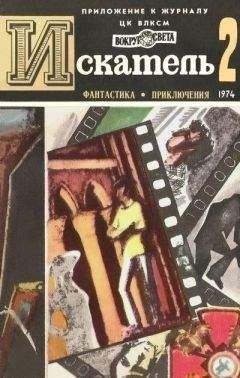Петля и камень в зеленой траве. Евангелие от палача - Вайнер Аркадий Александрович
Этот осел, не зная Риммы, не мог понять, что она категорически отказывается от меня не по любви и не из страха, а от стыда. Ну все равно как он просил бы ее рассказать ему искренне, душевно, совершенно чистосердечно, каким образом она сожительствует с собакой, с кобелем. Или с козлом.
Ничего она ему не написала. И не сказала. Минька ведь не мог знать то, что я с удивлением и беспокойством в ней уже давно замечал. В ней медленно, неотвратимо зрело ужасное состояние – бесстрашие. Явление всегда и везде патологическое, а в наших условиях – чистое безумие, ибо имело единственный не имеющий вариантов результат – мучительную, позорную смерть.
Выбора между достойной смертью и бесчестной жизнью не существовало. Качели судьбы мотало между грязным умиранием и позорной казнью. Минька с гордостью пересказал мне анекдот, за который посадили двух студентов из театрального института: «Живем как в трамвае: половина сидит, остальные трясутся…»
Всеобщий страх, конечно, никого не гарантировал от репрессий, но тот, кто его утрачивал, был, безусловно, обречен на скорый конец. Бесстрашие в те поры проступало, очевидно, как сумасшествие – в поступках, в репликах, в выражении лица.
Я ведь и заметил симптомы ненормальности у Риммы по выражению лица. Как-то совсем незаметно оно утратило скованно-задумчивую покорность, испуганную замкнутость в круге своих тайных забот и горестей.
…Она подняла, как Вий, свои тяжелые семитские веки, всегда опущенные долу, и посмотрела мне в лицо. Господи, боже ж ты мой! Это были огромные озера, коричнево-сладкие, как сливочные ириски. И в них не было страха, смятения. Даже презрения и ненависти не было.
Наверное, тогда она узнала, что их еврейское время – не проточная вода, а бесконечная кольцевая река и нет смысла бояться меня, Миньку Рюмина и нового министра Семена Денисыча Игнатьева. Она и Пахана не боялась. Она была безумна.
Тихим голосом сказала:
– Маме ничего не говори об отце. Пусть надеется…
– Хорошо, – покорно согласился я. – Я ведь и тебе не говорил…
– Я знаю, – мотнула она головой, и я впервые увидел в огромной копне ее чернокудрых волос белоснежные прядки, и сердце мое сжалось от любви и жалости, от страстного желания броситься к ней и прижать эту прекрасную, эту любимую, эту проклятую голову к своей груди.
– Я знаю, – сказала она. – Я собрала твои вещи в чемодан. Забери его и уходи. Навсегда. Больше никогда мы не увидимся…
– Увидимся, – заверил я. – Мы с тобой колодники на одной цепи… Никуда не денемся… И у нас с тобой ребенок…
И тут она засмеялась. Она засмеялась! Впервые! Я никогда, ни разу не видел, чтобы она смеялась! Но сейчас она смеялась, и лицо ее, озаренное злым смехом, стало еще прекраснее. Это было лицо совершенно незнакомой мне женщины. И я тогда подумал, что если мне не досталось ни разу это смеющееся неповторимое лицо, то хорошо бы увидеть еще одно выражение – под пыткой.
– На моем конце цепи можешь удавиться, – сказала она спокойно. – И ребенок этот – мой. Надеюсь, что она никогда не узнает, кем был ее отец…
– А кто же я есть по-твоему? – глумливо спросил я, хотя мне было совсем не до смеха. Еще не понял, а интуицией звериной своей ощутил – ушла она, вырвалась из моих силков, для меня пропала. Насовсем.
– Ты палач, – сказала она просто. Тихо и ровно. – Тюремщик, мучитель, палач. Убийца. Равнодушный, спокойный убийца. Будь ты проклят во веки веков… И семя твое будет проклято…
– Замолчи, идиотка! Что ты молотишь? Ты своего ребенка проклинаешь…
Римма покачала головой:
– Мы не знаем, чьи грехи искупаем. И Майка уже проклята, и я проклята за то, что не умерла, а дала ей жизнь…
Она отсекла меня мгновенно, без малейших колебаний, и впервые в жизни я впал в постыдный мандраж. Я думал только о Римме и удивлялся себе, ибо никогда не испытывал такого странного чувства – я плакал о ней во сне, а проснувшись, безостановочно считал варианты, как бесследно убрать ее.
Дело в том, что, по здравому смыслу, мне надо было давным-давно покончить с ней. Римму надо было давно убрать, она должна была бесследно исчезнуть. Особенно если учесть стремительно возрастающее могущество Рюмина и его твердое решение ущучить меня. Связь с Риммой была замечательным компроматом, и, поддерживая наши отношения, я играл в самоубийственном аттракционе похлеще «русской рулетки».
Но пока она не вышибла меня, я выдумывал каждый день новые поводы и отговорки – только бы продлить еще это непроходящее колдовское наваждение, ароматный блазн, сказочный морок, долгий волшебный сон наяву…
Но оставить Миньке в качестве свидетельницы свою пришедшую из мечты проклятую любимую жидовку я не мог.
Да и обида – воспаленный струп на сердце – не давала покоя. Я отдирал Римму от себя с треском, как доску от забора. Я замечал вдруг, что у меня непроизвольно сжимаются и разжимаются кулаки, и я ловил себя на том, как мысленно душу Римму, рву ломтями мясо с ее рук, выдавливаю пальцами глаза, бездонно-коричневые, сладкие, как ириски.
Красное умозатмение избиения, наркотический кейф соленого вкуса чужой крови, душный восторг убийства!
Ничего этого я себе позволить не мог, я ведь был профессионал. Надо было бесследно похоронить Римму – до того, как к ней подобрался Минька.
И когда я нашел беспроигрышный вариант, выяснилось, что я опоздал – Минька-посадник упредил меня и посадил Римму.
Прихотливость хитрозавитых выкрутасов судьбы! Я любил Римму, как никого и никогда больше не любил, и твердо решил ее убить. Минька ненавидел, презирал ее – семечко от всего противного иудиного племени, и, арестовав Римму, спас ей жизнь.
Господи, какое счастье, что от своего вулканического взлета этот стоеросовый долболом ни на йоту не поумнел! Ведь он мог, используя правильно Римму, шугануть меня так, что я вовек бы костей не собрал! Но мне повезло – Сергею Павловичу Крутованову не нужен был умный подхватчик за спиной.
И Минька, побившись с неделю с Риммой и не получив ни одного показания на меня, кинул ее на заседание ОСО.
ОСО. Магическое слово – «Особое судебное совещание при министре государственной безопасности СССР», знаменитая «тройка». Вершина мировой юриспруденции, пик развития правовой мысли, справедливейшей из всех трибуналов, ареопажный суд, мудрейший из всех синедрионов!
Тройка! Судбище, где не нужны сентиментальные глупости прений сторон, совершенно излишни банальности доказательств, где не бывает адвокатов, где нет самого дела и не нужен обвиняемый. Осужденный «тройкой» узнает о том, что его судили, прямо перед расстрелом или – если повезло – уже в лагере.
«Эх, „тройка“! Птица-тройка, кто тебя выдумал?» – справедливо отметил наш народный классик. И совершенно резонно указал, что, знать, у бойкого народа ты могла только родиться, в той земле, что не любит шутить, а ровнем-гладнем разметнулась на полсвета…
Подчеркнул провидчески Николай Васильевич, что тройка – и нехитрый, кажись, дорожный снаряд, собранный не то ярославским, не то вологодским мужиком, и ямщик Рюмин не в немецких трофейных ботфортах и сидит черт знает на чем, а привстал да замахнулся кнутом, только вздрогнула дорога да вскрикнул в испуге остановившийся пешеход…
Полторы сотни лет назад спросил писатель в некотором недоумении: «Не так ли и ты, Русь, что бойкая необгонимая тройка несешься? Дай ответ!»
Не дает ответа. Несется. Двенадцать с половиной миллионов человек прокатила на себе «тройка» – в Сибирь, на Колыму, на тот свет.
Остановился пораженный этаким чудом созерцатель по фамилии Гоголь: не молния ли это, сброшенная с неба? Что значит это наводящее ужас движение? И что за неведомая сила заключена в этих неведомых светом конях-воронках?
Подумал-подумал этот созерцатель хренов, не дождался ответа – «тройка» не дает ответа, и сказал нам по секрету, как мне сообщали в рапортах мои осведомители: «Летит мимо все, что ни есть на земле, и, косясь, постораниваются и дают ей дорогу другие народы и государства…»