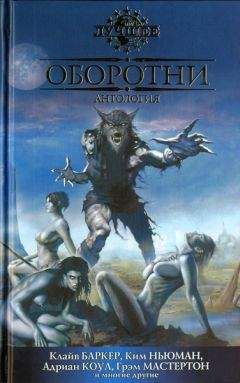Иван Наживин - Распутин
— Но главное, давайте с первых же номеров вашего Распутина! — оживленно сказал принц. — Газету все нарасхват рвать будут…
— Конечно, конечно… — сказал Сердечкин, заметно под влиянием обеда и ликеров распоясавшийся. — Я уже профильтровал эти записки, основательно устранив все… сомнительное, но и в этом виде они производят потрясающее впечатление…
— Не слишком ли там задета наша аристократия? — осведомился князь Сергей Иванович.
— Я вообще считал бы правильным, чтобы записки эти были нам всем предварительно прочитаны… — сказал сухо хроменький министр.
— Конечно! — поддержал строго Тарабукин.
— Но, господа, если мы так и будем процеживать материал, то, боюсь, мы очень… повредим газете… — заметил Сердечкин.
— Но нельзя же и на стену лезть ради сомнительных успехов! — отпарировал возненавидевший его почему-то хроменький министр.
И после спора было решено, что записки прочитает предварительно принц.
— Но… — обратился заметно подгулявший Сердечкин любезно к княгине, прихлебывая вкусный бархатистый ликер. — Разрешите задать вам один, может быть, несколько неделикатный вопрос, княгиня… Скажите, что думаете вы об отношениях императрицы к Распутину?
Все невольно переглянулись: надо же быть таким нелепым!
— То есть, извините, я не понимаю, что же именно тут вас интересует? — холодно сказала княгиня.
— Да вот, как нам известно, упорно ходили слухи, что эти отношения были… так сказать… ну, романического характера, что ли…
— Какая нелепость! — тихо воскликнул хроменький министр. — И русский человек может задавать такие вопросы о своей императрице!
— Ну отчего же? — возразил не любивший старика граф, который иногда не прочь был и подзудить. — Во всяком случае поводов для всяких предположений она сама давала достаточно… Прочитайте ее письма к Григорью, опубликованные сумасшедшим монахом Иллиодором… Она не постеснялась написать своему другу о том, как она жаждет держать его в своих объятьях… Согласитесь, что…
— Но кто же поручится нам, что эти письма подлинны? — возмущенно сказал министр. — Монах тот показал себя достаточно некрасиво. Теперь, говорят, он работает с большевиками…
— Разумеется… — строго оглянувшись на всех, сказал Вадим Тарабукин.
— Да и ее письма к императору тоже, может быть, подделка… — сказал генерал Белов. — Изданы жидом Гессеном. Это народ тонкий…
— Ну разве что подделка!.. — рассмеялся граф.
Скоро позвали пить чай в салоне. Принцесса все еще не справилась со своим огорчением. Присяжный поверенный Сердечкин восхищался чрезвычайно и Гейшей, и ее несколько запоздавшим женихом, который тоже был допущен в гостиную и который был, кажется, еще отвратительнее своей невесты. Принцесса от этих похвал немножко оттаяла и даже посмотрела на свою провинившуюся любимицу и слабо улыбнулась. А принц подумал: «Хотя и кадет, а парень ничего. А тот, — подумал он про Евгения Ивановича, — размазня…»
И когда после вечернего чая в гостиной все, простившись с расстроенной принцессой, стали расходиться, граф остановил в коридоре Евгения Ивановича.
— Вы — странный человек… — сказал он. — С людьми нашего мира таким образом вы каши никогда не сварите…
— В чем дело?
— На сон грядущий я расскажу вам один анекдот, а вы намотайте его себе на ус… — сказал он. — Раз видел фараон египетский сон, и, проснувшись, позвал он своих мудрецов-гадателей и, всемилостивейше изложив им свое сновидение, высочайше повелеть соизволил разгадать, что сей сон означать может. Мудрецы уединились в храме и стали над царским сном голову ломать, и не знали они, как им быть: зловещее значение имел сон! Фараон долго ждал их и, наконец, изволил разгневаться на их медлительность и приказал им немедленно явиться пред свои царские очи. «Что это значит, что вы так медлите? — грозно сказал владыка. — Или ничего не понимаете вы в вашем деле? Смотрите: загоню туда, куда и Макар телят не загонял…» — «Нет, сильны мы в нашем искусстве, великий царь, — отвечали смущенные жрецы, — но зловещее сулит твой сон, богоподобный…» — «Чем же грозит мне судьба?» — нахмурился фараон.
«Владыка, ты потеряешь всех своих детей…» — наконец решились вымолвить мудрецы. И разгневался пресветлый фараон, и прогнал от себя гадателей, и в праведном гневе своем всемилостивейше повелел он дать им всем по сто палок. А затем приказал он собрать других мудрецов, уже самых мудрых, самых именитых, и, снова изложив им свое сновидение, приказал разгадать его смысл и по возможности без большого промедления. Не успели они уединиться для суждения, как почти тотчас же и явились перед светлые очи с лицами радостными и сияющими. Владыка, бессмертные боги в неизреченной милости своей к тебе вещают тебе в сноведении великую радость: ты переживешь всех твоих детей! И, благостный, фараон приказал щедро одарить мудрых толкователей его высочайшего сна… Граф тонко улыбнулся и закончил:
— Вот господин Сердечкин повел линию мудрецов мудрых и — победил…
— Как вам сказать, граф? Я не особенно завидую ему…
— Но, друг мой, надо же кормиться!
— Как-нибудь уж извернемся…
— Ну, спокойной ночи, неисправимый человек…
— Спокойной ночи…
Евгений Иванович вышел на балкон своей комнаты. Черная земля была прорезана светлой полосой Инна. За рекой на востоке встала луна. «Там Россия…» — подумалось, и стало грустно. И было светло, торжественно и тихо. И тысячелетние камни замка-монастыря навевали на душу какие-то вещие сны. Думалось: эти стены клали кельты в то время, когда на Руси был еще Рюрик. Россия пришла и, может быть, уходит, а стены эти, столько видевшие, все стоят: все мимолетно, все, как сон, ничто не имеет ни малейшего значения… И смутные и грустные думы эти укрепили его в решении в дело это не вмешиваться.
— Какая ночь! — сказал граф тихо со своего балкона.
— Очень хорошо… — отозвался Евгений Иванович. — В такую ночь не стоит думать о политических переворотах…
— Вы слишком строги к людям… — помолчав, сказал граф. — Это потому, что вы, как говорил Достоевский, слишком возомнили о человеке…
— Не знаю. Но если дело делать следует, то надо делать его чистыми средствами…
— А по-моему, было бы дело сделано, а как — решительно все равно… — сказал граф. — Я, например, в восторге от грандиозного здания Российской империи, а Толстой звал Петра пьяным сифилитиком, и разные либералы плачут над тем, сколько он народу для своей империи загубил, и подсчитывают с негодованием число любовников Екатерины, и негодуют, как нехорошо расправилась она со своим супругом, и сколько мужиков раздала в крепостные. Если рассматривать самое высокое историческое событие слишком уж пристально, то всегда легенда рассеивается и в основе находишь непременно какую-нибудь… собачью свадьбу… — засмеялся он. — Возьмите легенду тысяча шестьсот тринадцатого года. Издали фантасмагория, слеза прошибает, а рассмотришь вблизи все эти новые материалы, а особенно секретные — хотя бы те, что отыскал и для немногих издал Шереметев, — увидишь бешеные интриги Романовых, убиение ими в Угличе царевича Димитрия, последнего законного претендента, и всяческую грязь и кровь. Но что мне до этого? Историки и поэты обровняют острые углы, подвеселят тени, подберут постройнее факты, Глинка напишет чудесную музыку, и все кончится торжественным колокольным звоном и «Славься ты, славься…»{230}
— Это верно. Но у меня участвовать в собачьих свадьбах истории не хватает… мужества… — сказал Евгений Иванович.
— И Святой Петр в Риме, и Кельнский собор, и Дворец дожей — все выстроено потными вонючими рабочими, все поднято из праха, из грязи…
— И это меня не утешает… Я видел, что в грязи утонула монархия, в грязи захлебнулась революция, в грязи погибло белое движение, и мне кажется, что довольно грязи…
— Вы окончательно неисправимы! — засмеялся граф. — Вот тоже друг мой Григорий Ефимович никак не мог не критиковать и — кончил плохо… Идемте лучше спать…
XXXVII
ВЕСТИ ИЗ ДОМА
Елена Петровна одобрила решение мужа не впутываться в сомнительные заговоры и предприятия, но в то же время ее чрезвычайно тяготила мысль о том, что скромные средства их тают, а притока нет ниоткуда: что же будет с детьми? И не раз, и не два в сознание ее стучалась мысль, что, может быть, лучше всего было бы возвратиться в Россию: дома, говорят, и стены помогают. Настя принимала очень близко к сердцу все эти волнения, но очень сомневалась, можно ли Евгению Ивановичу показаться в Окшинске. И наконец она надумала: в последние месяцы почтовые сношения с Россией стали как будто понемногу налаживаться, и ей пришло в голову написать домой. До этого времени они от переписки со своими воздерживались, чтобы не подвести их под неприятность.