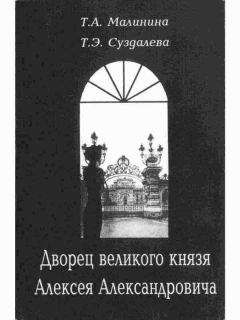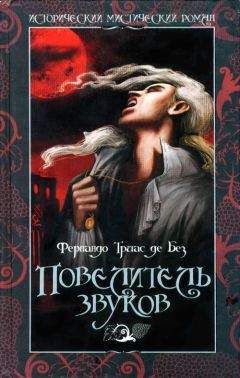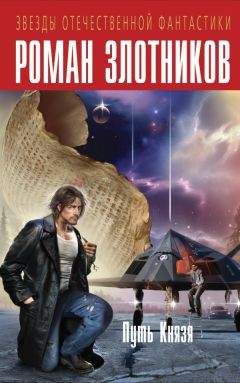Фернандо Триас де Без - Повелитель звуков
Мне сразу же вспомнился день, когда я прибыл в Высшую школу певческого мастерства: еще тогда я обратил внимание на то, что некоторые пьедесталы пустовали. Была ли какая‑то закономерность в том, что очередная статуя исчезла после той ночи? Никогда прежде мне не приходила в голову абсурдная мысль пересчитывать статуи, но, обнаружив пропажу мальчика с рожком, я решил, что отныне буду следить за всеми оставшимися ангелами. Как только в первую пятницу месяца еще один мальчик перейдет с особый хор и ночью вновь раздадутся вопли, я пересчитаю изваяния, потому что, как мне казалось, между ритуалом избрания, воплями и пропажей статуй существовала какая‑то взаимосвязь.
14
У вас могло сложиться впечатление, отец Стефан, что за все ученические годы я не видел ничего, кроме ужасов и лишений. Но это не так: пребывание в Высшей школе певческого мастерства весьма благотворно сказывалось на моем образовании. Мы изучали литературу, немецкий, английский, итальянский, французский языки, историю искусства, но основное внимание уделялось все же музыке и пению, два часа утром и три – перед ужином. Теория музыки, сольфеджио, нотная грамота, гармония, история музыки, сольное пение, хоровое пение, постановка голоса, драматическое искусство, декламация, риторика… Хотя я обладал исключительными способностями, новые знания оказались мне весьма кстати. Я научился без труда читать партитуры, декламировать тексты под музыку, выделяя каждый слог определенной нотой, освоил систему знаков, по которым певец может узнать, когда ему вдыхать, когда выдыхать, когда снизить голос до pianissimo, когда приготовиться к molto forte… Я никогда не жалел о времени, проведенном в этих стенах; уровень образования был настолько высок, что ему могли бы позавидовать лучшие консерватории Европы. У каждого из нас был свой наставник. Он встречался с нами дважды в неделю, выдавал партитуры немецких песен для проверки, учил работать над своим голосом, избегать ошибок, которые могли бы повредить голосовые связки… Три урока в неделю мы посвящали развитию слуха. Учитель Драч садился за орган, касался любой клавиши, а мы должны были определить, что это за нота. Иногда он брал скрипку и намеренно брал фальшивую ноту, а мы учились исправлять ее, увеличив или понизив на полтона. По четвергам мы занимались нотной грамотой: учитель играл нам пятнадцатитактную музыкальную фразу, которую нужно было записать в нотном стане со всеми изменениями, указав длительность каждой ноты. Многочисленные занятия отнимали много сил, но нашим голосам они шли только на пользу.
Признаюсь, именно в Высшей школе певческого мастерства мне довелось впервые испытать ни с чем не сравнимое блаженство, потому что именно там я впервые открыл для себя тайну хорового пения под величавый аккомпанемент церковного органа. Вы пели когда‑нибудь в детском хоре, святой отец? Вы даже не можете представить себе, что это за чувство! Это все равно что нырнуть в теплое море. Ласковые звуки обволакивают твое тело, смыкаются над головой, целуют и гладят тебя. Потом, когда пассаж партитуры показывает крещендо, ты начинаешь дрожать. И я, Людвиг Шмидт, даже я, чья плоть, казалось, соткана из тысячи звуков, чувствовал себя единым целым с этим местом, потому что там жила музыка.
По окончании триместра нас отпускали на каникулы, и мы разъезжались по домам. Я отправлялся в Дрезден и проводил несколько дней с родителями. Они не донимали меня расспросами, да и я почти ничего не рассказывал. Я знал, что не задержусь в этом интернате надолго. Меня вела по жизни могущественная сила, над которой я был не властен – сила моего призвания. Но раз уж я получил власть над звуками и призван стать величайшим певцом в истории, мне следовало во что бы то ни стало продолжать обучение и постигнуть все премудрости певческого искусства. Большего и не требовалось. Поэтому я никогда не жаловался на холод, плохое питание, недостаток отдыха и сна. В Высшей школе певческого мастерства я довольствовался пищей духовной. В этом месте, лишенном души, моя душа расцветала.
Не желая привлекать внимание господина директора с его странными педагогическими методами, а также питая тайную неприязнь ко всем мальчикам за исключением Фридриха, я скрывал свой талант, но в то же самое время жадно впитывал в себя новые знания. Представьте себе, отец, каково приходится гениальному художнику, который вынужден всю жизнь малевать дрянные пейзажи… Неужели у него никогда бы не возникло порыва схватить лист бумаги и запечатлеть на нем все совершенство своего внутреннего бытия? Нечто подобное случалось и со мной, и в редкие моменты, когда мои товарищи начинали шуметь, я отпускал голос на волю и пел. Но этого было недостаточно. Тогда уже на четвертый месяц я вставал посреди ночи, одевался и под покровом темноты выскакивал во внутренний двор. Если бы меня видел кто‑нибудь из наставников, я был бы немедленно исключен из школы. Конечно, я знал, что за оградой разгуливает Красавчик Франц, но он мог лишь видеть, а я слышал каждый его шаг. Обмануть его было проще, чем поймать курицу, загнанную в угол. Я пролезал между прутьями решетки, убегал в лес и забирался на самое высокое дерево. Там, сидя в густой кроне, скрытый от любопытных глаз и ушей, я пел мелодии, которые днем пели мои товарищи. Наставники никогда бы не доверили мне исполнять их, ведь я казался им недостойным внимания. Я вплетал в эти мелодии неописуемую нежность, грусть, навеваемую завываниями ветра, чувство, проникавшее до самых глубин, как корни дерева, что держали меня над землей. Я пытался передать в песнях восход солнца, взмах крыльев орла, озирающего царственным взором свои владения, робость оленя, скрывшегося в чаще, улыбку Бога, сотворившего мир. В тот миг все звуки моего детства, дремавшие под коркой леденящего страха, имя которому было господин директор, пробуждались и возносили меня ввысь. Мне рукоплескали Мюнхен, Бавария, Германия, Европа – весь мир. Мой голос струился как река, которая берет свое начало на Земле и устремляется вверх, к небесам, опровергая закон земного тяготения. И, наконец, воплотив в голосе тысячи оттенков звука, я рыдал в отчаянии, потому что, несмотря ни на что, я, и только я, Людвиг Шмидт фон Карлсбург знал, что мой голос несовершенен, что мне недостает одной‑единственной ноты. Мое отчаяние было бездонным колодцем, из которого веяло пустотой. Где же она, моя последняя нота? Почему она прячется от меня? Сколько еще мне придется искать ее? В каких краях она обитает?
Как только начинало светать, я спускался с дерева и возвращался в корпус, стараясь не попасться на глаза Красавчику Францу. Пробравшись на цыпочках в комнату, я нырял под одеяло и засыпал, а через час просыпался вместе с остальными учениками.
15
Однажды, в конце февраля, в четверг, я вновь вышел за ограду и отправился на прогулку. Фридрих отказался составить мне компанию; у него был дополнительный урок пения. За все время, что мы провели здесь, он благодаря поистине нечеловеческому упорству и моей помощи стал лучшим певцом в школе. В тот день ему впервые позволили вести сольную партию, и он был на седьмом небе от счастья. Он уже представлял, как обрадуются его родители, когда он приедет на каникулы и сообщит им эту новость. Я же подумал, что моя помощь ему уже не потребуется.
Я брел в одиночестве, погруженный в свои мысли, и сам не заметил, как оказался на другой стороне двора и зашагал по тропинке, ведущей к церкви. Появляться здесь в неурочные часы одному, без сопровождения наставника, было строго‑настрого запрещено. Спохватившись, я хотел было повернуть обратно, но вдруг среди темных ветвей мелькнули детские фигуры. Страх быть застигнутым на месте не смог побороть моего любопытства. Оглядевшись по сторонам и убедившись, что меня никто не преследует, я спрятался за деревом и перебежками, укрываясь за густыми кустами ивняка, подобрался к ним поближе.
Ведомые господином директором, мальчики двигались вереницей по направлению к церкви. Бледные, исхудавшие, обритые наголо – они казались бесплотными тенями. Я нисколько не сомневался, что вижу перед собой певцов особого хора. Как вы, наверное, догадались, отец, долгое время я подозревал, что особого хора на самом деле не существует, что он – измышление учителей, приманка для доверчивых детских умов. Но теперь я вынужден был признать, что ошибался. Особый хор стоял в двух шагах от меня, выделяясь белизной туник, в которые обрядил их господин директор, на фоне чернеющего леса. Мне показалось, что от них исходит едва уловимое бледное свечение, как от грибов‑гнилушек.
Я крался за ними до самой церкви, а когда они вошли внутрь, спрятался за стеклянными дверьми и прильнул к витражу. Сквозь стекло цвета темного граната я сумел разглядеть, как они один за другим поднялись по лестнице к органу, и потерял их из виду. А потом, отец, я услышал их голоса. Не стану скрывать: ничего подобного прежде я еще не слышал. Эти голоса звенели как хрустальные воды горных ручьев, наполняя пределы церкви звуками необычайной чистоты. Они звучали тонко, но в то же время были исполнены величия и удивительной нежности. Следовало признать, что при отборе певчих господин директор руководствовался не только собственной прихотью.