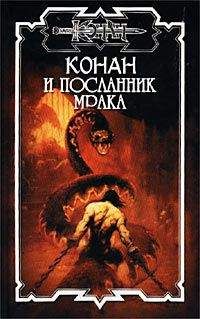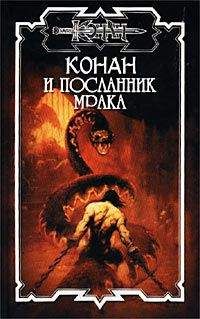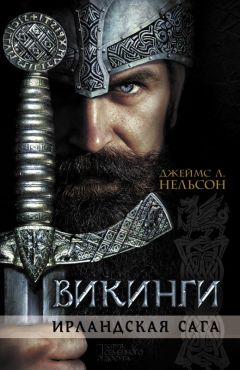Владимир Дружинин - Державы Российской посол
Для Бориса день проходил в ожидании ночи с Франческой. Синьоры Рота уже не стеснялись, а та словно не замечала греховных свиданий. Лишь ночь была светла. За столом в навигацкой школе одолевал сон, волосы Франчески вплетались в смутную вязь синусов, косинусов, тангенсов, рассыпались по морским картам. И в чертежах судов, в плавности линий виделась Франческа. И на бушприте корабля возникала Франческа, ее руки, откинутые назад, ее груди, открытые ветру.
Иногда, за пределами лучезарной ночи, растянувшейся на месяцы, обнаруживал Борис солдата Глушкова, корпевшего над книгой, листал его тетрадь, что-то исправлял. Играть недорослю стало не на что. К тому же Толстой имел с ним разговор келейный, строгий, должно полагать, припугнул.
Не чует земли под ногами, не чует суеты окружающей Борис, избранник амора.
17
С Франческой не соскучишься. Притомится в игре аморной, снимет с гвоздя цитру, начнет вызванивать музыку – то плясовую, то жалобную, от коей рыданья подступают к горлу. Иной раз собьется, наморщит переносицу, поправит себя:
– Нет, тут форте…
Форте, аллегро, адажио – слова знакомые, однако пальцы Франчески, исторгающие звуки, сообщают им значение особое, неизведанное.
Однажды раскрыла малую книжицу – с ладонь величиной – и стала читать вирши. Красиво, но понятно не все. Поета, именем Петрарка, писал, оказывается, по-тоскански. Франческа сама не знала некоторых слов.
Ведет меня Амор,
стремит Желанье,
Зовет Привычка,
погоняет Младость,
И, сердцу обещая мир и сладость,
Протягивает руку
Упованье.
Борис слыхал до сих пор вирши духовные, вирши хвалебные – на взятие Азова, – а такие не попадались. Сии именуются сонеты, по четырнадцать строк, ни одной меньше, ни одной больше. Почему?
– Потому что сонеты, – ответила Франческа.
Вроде заговора, подумал Борис. Число содержит тайну. Подлинно заговор, имеющий цель приворожить сердце. Борис чувствует, как звучит в нем сонет.
– Амор был или нет? – спросил он вдруг.
– Амор?
– Ну да, бог Амор?
– Смешной ты.
– Попы его не признают. Все же странно…
– Что странно?
– Ну как же… Амора нет, а дела аморные есть. Петрарку, может, сожгли, а они все равно есть.
– С чего ты взял! – смеялась Франческа. – Вовсе его не сожгли.
– Вот видишь. Древние люди верили же в Амора.
– Верили.
– Наверно, и нам надо верить, – решил Борис.
Яснее выразить мысль он не мог. Рядом мерцали, благоухали плечи Франчески. Язычок светильника дрожал, тени одевали ее и раздевали.
Где-то за пределами царства Амора неслось время. Отшумел карнавал, раскидав по мостам, улочкам смятые машкеры, ленты, оторванные пуговицы. Лагуна вздувалась, поднимая гондолы к окнам, ветер осыпал Венецию первой снежной порошей.
Настал год 1698-й. Не за горами конец ученья, конец житья за границей, а следственно, и разлука.
– Увези меня во дворец к царю! – говорит Франческа. – Там красивые дамы? Красивее меня?
– Глупая. Нужна ты ему…
От Толстого слышно: царь в Голландии, строит корабли, как простой работник. Квартирует в домишке кузнеца, ходит в красной рубахе, в войлочной шляпе. Бражничает с матросами в таверне. С ним постоянно его любимец, сын московского конюха, приближенный к особе царской паче всех родовитых.
Алексашка Меншиков, кто же еще!
– Российский флот откуда возьмется? – продолжал Толстой. – У венециан корабли не займешь. А если супротив султана в одиночку стоять, тогда как?
– Мириться надо! – крикнул Аврашка.
– Ты султана спроси, – обернулся Борис. – Увидит, что мы одни, – захочет ли?
– Судишь верно, – одобрил Толстой. – Наперво Азов обратно стребует.
Лопухин не унялся:
– Пропади он, Азов!
– Ты Азов не трожь, – обозлился Борис. – Ты, что ли, там сидел, таракан запечный?
Класс навигацкой школы огласился криками. Жирная Аврашкина рожа лоснилась нестерпимо. Борис замахнулся. Толстой обхватил его сзади.
В тот день Борис, прежде чем вернуться в палаццо Рота, кружил по городу, унимая смятение. Подставил горсть струе фонтана, по-весеннему теплой, обрызгал горевшее лицо.
На мосту Риальто, оседланном лавками, окликали прохожих звездочеты, гнусавили в медные трубы:
– Стойте, синьор! Стойте, прелестная синьора! Посоветуйтесь со звездами!
Сухонький старичок в колпаке пронзил Бориса взглядом, спросил, в какой день, какого месяца и года достойный комендаторе родился. Труба, приставленная к уху Бориса, засипела:
– Рожденный под Близнецами характер имеет деликатный, незлобивый, отличается состраданием к ближнему и щедростью.
Старец подал гороскоп – ломкий, серый листок, шершавый от глубокой печати, потом предложил таблицы – комендаторе сам вычислит свое будущее, Борис, словно околдованный, послушался.
Вспоминая колючие глаза чернокнижника, ежился. Не уронить ли в канал бесовские письмена?
Что же будет?
До сей поры звезды указывали Борису лишь место корабля в море, позволяли прочертить курс. Ныне он ждет от небесных путеводителей большего. Знакомыми действиями математики вычисляет углы схождения и разлета планет, бег Солнца, пересекающего за год все двенадцать созвездий зодиакального круга. Волнуясь, стольник записывает мерцающий, из великой дали идущий язык богов.
«В сем году бежит доброе управление Юпитера и Солнца. Рожденный будет возвышен до чину гораздо высшего».
Ни ему, ни Франческе не предрекают боги опасностей, не видят помех любви.
Гадает Борис и на царя, с коим связан родством глубочайшим, – знак Близнецов, похоже, над обоими. Доброе управление звезд должно распространяться и на Петра Алексеевича. И точно, боги благоволят ему.
Руки Франчески тянутся к Борису, замыкают его в волшебном кольце. Родимые пятнышки – будто отражения небесных фигур, заглядевшихся на женскую красоту. Можно ли, блаженствуя в храме Амора, не верить богам!
18
Великое посольство двигалось к Вене. По большакам, обсохшим к лету, через польдеры Низких земель, истоптанных недавней войной, через Лейпциг, Дрезден. Поезд растянулся на версты. Ни одна немецкая рощица, звенящая свежей листвой, не накрывала его тенью из конца в конец.
Обгоняя послов, неслись донесения Гофмана, австрийского резидента в Лондоне.
«Здешний двор, кажется, утомлен причудами царя», – отмечал аккуратный служака, ревнитель этикета.
Царь встает в четыре часа утра. Только адмирал Кармартен, известный воин, дуэлянт и бражник, не устает сопровождать царя, любопытство коего беспредельно. Чтобы поговорить с его величеством, надо искать его у машин Монетного двора, у приборов Гринвичской обсерватории, спускаться в трюм или лезть на мачту.
Придворный художник Кнеллер намучился – царь прибегал позировать в потертом кафтане, вымазавшийся в смоле. Не сидел на месте и десяти минут.
Уже отпечатаны, разошлись по столицам гравюры с портрета. Добросовестный Гофман прислал одну в Хофбург и пояснил: сходство, по вине буйной модели, приблизительное.
– Картина вызывает толки, – сказал Кинский, стараясь поймать блуждающий взгляд императора.
Леопольд, недовольный, невыспавшийся, держал гравюру, почти прикасаясь тяжелой, отвислой губой. Левая рука его искала пуговицу расстегнутого халата.
– Кнеллер… Кнеллер… Это он написал Баварского курфюрста?
– Он, ваше величество, – ответил Кинский, обязанный все помнить.
– Старый пройдоха! Чего ради так пошло льстить царю варваров!
Юный царь, у окна, распахнутого в морскую даль, приторно красив. Снежное облако горностая обвевает серебро доспехов. Море неспокойно, ветер клонит паруса высокобортных, многопушечных фрегатов.
– Обратите внимание, – настаивал Кинский. – Подобных кораблей в Московии нет.
– У меня здесь тоже нет. Чем мы порадуем царя? Дунайской баркой, граф. Баркой, на которой словаки привозят мясо.
Кинский не настроен шутить. Ему душно в тесном гусарском доломане. Кабинет жарко натоплен, – благодатный май не согревает Леопольда.
– Как видите, – продолжал министр, – воинственный пыл царя не угас. Он твердо намерен приобрести себе море.
– Прекрасный аппетит, граф. На здоровье, пусть приобретает.
– Орден Иисуса тоже просит не ссориться с царем. Иначе не будет шансов учредить миссию в Москве. Кстати, для нее есть подходящий человек, Броджио, очень полезный для нас…
Ноги в узких сапогах затекли, Кинский страдальчески переминается. Хрустят обрывки нотной бумаги, устилающей ковер. Боже, сколько нужно терпения! Император вот уже полгода мусолит свою кантату, это ему важнее, чем предстоящий визит царя.
– Скажите, что я болен, – твердит Леопольд.
Царь варваров, Голиаф – иначе он не называет Петра. Чем ближе московское посольство, тем чаще белки монарших глаз окрашиваются желчью. «Не заболел бы в самом деле», – думает Кинский.