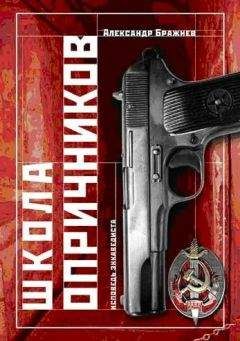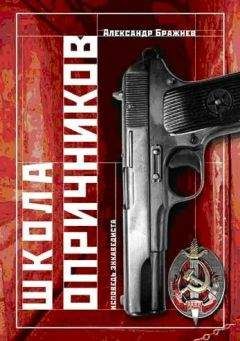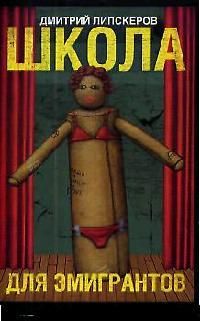Тулепберген Каипбергенов - Неприкаянные
— Не скажи, — миролюбиво возразил Есенгельды. Спрятал старик подальше свою спесь и свою гордость, затевая нелегкий разговор с Айдосом. Никогда прежде не спускал обиды, а тут будто не заметил ничего. — Не скажи, мудр Туремурат-суфи, общение с ним полезно и молодому и старому, глаза будто по-новому глядят на мир.
— Что же увидели нового в этом мире твои глаза? — с усмешкой спросил Айдос.
— Дела старшего бия.
— Опять за свое! — махнул рукой Айдос. — Не ново то, что делает старший бий. Деды и отцы начали это. Или забыл Мамана?
— Помню. Только не твоих дел то начало. Одной семьей жили каракалпаки, теперь — многими семьями. Был аул трех братьев, стало два аула трех братьев. Разошлись берега.
— Поусердствуете со своим суфи, будет и третий аул.
— Зачем так, Айдос? — обиделся вроде бы за суфи Есенгельды. — Туремурат, наоборот, хочет соединить два расступившихся берега, быть мостом…
— Верно, быть мостом, по которому мы все пойдем в одну сторону: к кунградскому хакиму. Сначала он увел Бегиса и Мыржыка, теперь пытается увести Айдоса. За мной прислал тебя? Признайся, Есенгельды.
— За тобой.
— Напрасно старался. Не лежит моя дорога через мост Туремурата-суфи.
— Пусть ляжет. Другого моста нет, Айдос. Кунградский лишь. Это все поняли.
— Плохо у тебя с памятью стало, Есенгельды. Есть еще хивинский мост.
— Заказан он для Айдоса. На нем зиндан и виселица. А на кунградском мосту жизнь и свобода.
— Что-то вы с Туремуратом-суфи все мне смерть пророчите, — тревожно повел плечами Айдос. — Или задумали черное дело?
— Астапыралла! — замахал руками Есенгельды. — Не думай такое. Грех подозревать великого суфи в низменных намерениях. Чист он как ангел. Смерть-то тебе уготовил хай хивинский. Предостеречь брата своего и послал меня суфи.
— Лжешь, старик!
Всевышний свидетель тому, что в сердцах наших добрые намерения.
Лгал Есенгельды. Чувствовал это Айдос. Но повторенное трижды слово «смерть» все же напугало старшего бия. Будешь звать постоянно смерть, так она и в самом деле явится. Торопит же ведь, каркая, ворон непогоду, так накаркает несчастье и Есенгельды. Вороном злым сидит на коне, сгорбился, насупился. Мечется на ветру его белая бородка, костлявой рукой пытается поймать ее и не может. Еще больше хмурится, еще больше злится.
— Зачем же хотел войти вместе со мною во дворец? — спросил Айдос. — Там ждала меня виселица.
— суфи сказал: «Если не остановишь Айдоса перед ханскими воротами, проводи его до ханского трона, будь ему опорой в последнюю минуту. Ведь все отвернулись от старшего бия».
— Отвернулись?! — удивился Айдос.
— Отвернулись, брат мой. На холме совета бии приняли тебя, а спустились с холма — отвернулись. Каждый выбрал свою тропу. На Айдосовой тропе ты один.
Опять лгал Есенгельды. Не отвернулись от Айдоса бии, не могли отвернуться. Верил он в это. Но как слово «смерть», обдало его холодом и слово «измена». Повтори старик трижды его — поверишь, пожалуй, и в это пророчество. Накаркает злой ворон.
Айдос хлестнул коня, словно хотел хлестнуть проклятого ворона. Сказал на скаку:
— Одинокая тропа не страшна, была бы верной. Доберемся по ней до цели.
13
Кустарниковые заросли Маман-шенгеле такая чащоба, что ни человек, ни конь не в силах сквозь нее пробиться.
Чистые от кустарника поляны редки, и не пройдешь к ним: топором прорубать тропу надо. Станешь же прорубать — жизни не хватит. Но кто знает тайны Маман-шенгеле, пройдет к чистому месту, не прорубая тропы. Да, немногие ведь знают и с другими своими секретами не делятся. Как Айдос, к примеру.
К заветной полянке надо идти по кругу, огибая заросли и спускаясь к берегу канала. Отсюда, защищенная водой, начинается неприметная для чужого глаза дорожка. По ней, тревожа птиц и тишину, дойдешь до чистой поляны, на которой растет большой турангиль. Такой большой, что не всякая юрта своей крышей сравнится с шапкой его ветвей. Под ней и горячее солнце не солнце, и холодный дождь не дождь. Как кошма толстая — от всего защитит.
По хитрой тропе прошел к турангилю Айдос. Привел с собой Есенгельды.
Было время третьей молитвы — намазлыгер, и джигиты общались со всевышним. Никто не поднялся с ковриков, никто не повернул головы в сторону Айдоса и Есенгельды: грех отвлекаться от святого дела. Но отметили для себя, что оба старейшины рода кунград прибыли вместе и, значит, мир между ними.
Есенгельды первым спрыгнул с коня и упал на коврик — так торопился начать разговор с богом. Айдос приступил к молитве не спеша, хотя ему-то надо было торопиться: беды настигали его, а кто поможет, кроме бога…
Стал молиться Айдос, стал восхвалять всевышнего, превознося его как творца мира, средоточие добра и справедливости, надеясь, не без тайного умысла, обратить взор божий на долю старшего бия и проявить к нему благосклонность. Надо было бы попросить у всевышнего защиты от врагов и наказания тем, кто строит козни. Но грешно просить у бога то, что связано с земным. Да и говорят на Востоке: не желай другому смерти, лучше пожелай себе долгой жизни. Жизнь, долгая жизнь нужна Айдосу, ее молил у всевышнего старший бии, только она дала бы возможность осуществить задуманное.
Молились степняки, общались с богом, а вокруг все шло своим чередом. Горел зажженный Кабулом очаг, свисали с жердей джангилевых бараньи тушки, освежеванные Кадырбергеном. Оставалось лишь снять их с жердей, располосовать острым ножом на куски, посадить на очищенные от кожицы веточки и опустить в огонь. Заиграет сало в жару, взовьется ароматный дымок над поляной. Потянутся руки к горячему сочному мясу. Вот оно, земное, пьянящее своей силой.
Звало земное степняков. Поэтому не задержались они с молитвой, не затянули свой разговор с небом. По вскакивали с подстилок, поспешили к огню. Встал и Айдос. Один Есенгельды остался на коврике. Гордость не позволяла ему так быстро прервать общение с богом. Недостойны истинного мусульманина суета и торопливость при соблюдении святого обряда! Он сидел с закрытыми глазами, чтобы не видеть ничего, способного соблазнить. Но не молился уже. Вспоминал происшедшее нынче перед дворцом. Оно выходило против Айдо- са, и это радовало Есенгельды. Радовало и утоляло жажду мести. Не без рук Есенгельды затягивалась петля на шее старшего бия. Еще немного — и задохнется Айдос, высунет свой проклятый язык, исчезнет с дороги Есенгельды.
Желание гибели Айдоса было так велико, что, поднявшись с молитвенного коврика, старик стал искать глазами старшего бия, словно тот мог исчезнуть за эти минуты. Но не исчез Айдос. Вместе с Кабулом ломал сушняк, складывал горкой возле ямки, накидывал на огонь, не давая ему слишком высоко подняться и схватить жадными языками нанизанное на деревянные шомпола мясо.
Миром и спокойствием было наполнено все, что увидел Есенгельды, и сердце его загорелось ревностью.
— Хорошего слугу нашел себе Айдос, — направил старик ядовитое жало свое в Кабула, давнего врага старшего бия. — Держит чужой огонь как собственный.
Будь выпущена всего капелька яда, и та помутила бы разум Кабула, подняла бы притихшую ненависть к Айдосу, а старик перестарался, отдал всю злобу свою, оскорбил Кабула, унизил его бийское достоинство.
— Не Айдосов это огонь, — огрызнулся Кабул. — Наш огонь, общий.
Сделав глупый шаг, Есенгельды уже не мог не сделать второго, более глупого. Известно, затмевает злоба все разумное.
— Айдосов огонь стал общим. Как бы не сгорели вы все в нем! — прокаркал старик и затряс своей бородой как козьим хвостом.
Кадырберген, который нанизывал на веточки джан-гиля куски мяса, оставил свое дело и обратился к Есенгельды:
Ты этого хочешь, Есенгельды-ага? Или предостерегаешь?
Нахохлился старик, напустил на себя важность.
— Хотел бы, так не пошел бы следом за непутевым Айдосом, не влез бы в эту джангилевую западню. Зачем вольному степняку непролазные заросли, голова и ноги в них завязнут, станешь добычей шакала…
— Мы завязнем, значит, и шакалы завязнут, — усмехнулся Кадырберген.
— Ха, велика радость попасть на доброе кладбище. Кто потом разберет, где кости человека, а где зверя. Осквернится душа мусульманина от соседства с грязным животным.
Обижен был Кабул на Есенгельды и слова его отвергал как недостойные, но зловещий смысл, вложенный в них, смутил его. Храбростью он не отличался, хоть и был охотник: при ловле зайцев и лисиц к чему храбрость — достаточно хитрости! А тут хитростью не обойдешься. Шакалы не лисицы, они сродни волкам. Да и не о настоящих волках идет речь, о людях говорит Есенгельды, о врагах. Озираться стал Кабул, прислушиваться: не рыщут ли за кустами шакалы — четвероногие ли, двуногие ли? Ему, Кабулу, больше других грозила опасность: не расплатился он еще за беспутного хивинца, и расплаты хан может потребовать в любой час.