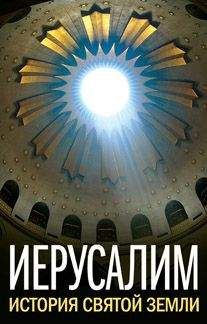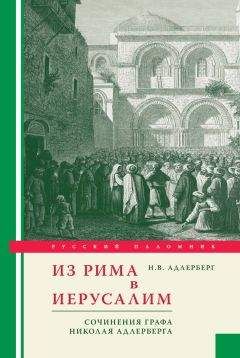Георгий Гулиа - Сулла
Сулла сказал:
– О великие сенаторы! Нет большей чести для любого государственного деятеля, для любого полководца, чем выступать перед вами – воплощением мудрости римского народа. Стоять здесь, на этой кафедре, столь же лестно, сколь и ответственно. Ибо нет собрания во всем мире более авторитетного и многомудрого, нежели римский сенат.
Надо отдать Сулле должное: не будучи сильным оратором, мысли свои он выражал просто и ясно. И в случае нужды мог затуманить истинный смысл витиеватыми сентенциями. Чему-чему, но этому он выучился-таки в Риме!
Воздав должное уму и опыту сенаторов, которых презирал всей душою, Сулла говорил:
– Я глубоко тронут приемом, который оказан вами. Этот прием исключает позерство, актерскую наигранную горячность с вашей стороны. Это – прием мужей, озабоченных положением дел в отечестве. Не понять вас, не посочувствовать бремени, лежащему на вас, – значит уподобиться мулу, который не видит ничего дальше своего носа.
В Риме рассказывали, что некоторые сенаторы, слушавшие эту речь, несколько переменились во мнении относительно Суллы. Один из них сказал: «Воистину страх – плохой советчик. Многие говорили, что Сулла прикажет разогнать сенат, что против каждого сенатора у него наготове десять солдат, коим приказано искрошить любого. На самом же деле все оказалось и проще и милее».
Другой сенатор сообщал в письме своей семье, заблаговременно выехавшей из Рима на виллу в Кампанье: «Выступал Сулла. Совсем недавно еще он жег городские дома, целые кварталы обратились в пепелища, а нынче поразил нас добросердечием и, я бы сказал, некоторой мудростью, в коей отказывали ему все его враги и, в первую очередь, Марий».
Действительно, после первых слов Суллы сенаторы вроде бы с облегчением вздохнули. Во всяком случае, спала пелена полной отчужденности и открытой ненависти. Сенаторы подумали: «Может быть, боги не оставят совсем без ума этого человека?»
Между тем Сулла, понемногу вдохновляясь, продолжал свою речь:
– Я появился в Риме вовсе не для того, чтобы присвоить власть, принадлежащую сенату. Напротив, я твердо намерен искоренить тиранию Мария. И любую тиранию вообще. Ибо невозможно представить себе нашу республику, которую народ пестовал веками, без широкой демократии, без народовластия, говоря нашим языком, без сената, без его решающей роли во всей жизни Рима, всей республики. Так думаю я, сенаторы. Вот почему я здесь, и здесь мое войско, которое всецело принадлежит сенату и будет выполнять только волю сената. Я это торжественно подтверждаю клятвою перед богами!
Сенаторы зашевелились. Их черствые души чуточку смягчились. Наконец-то растаял ледок, покрывавший сердца сенаторов. Послышалось шарканье ног, зашуршали тоги – это сенаторы поворачивались друг к другу, обменивались тайными знаками и взглядами.
И это не ускользнуло от острых глаз Суллы. Он предугадал, какое действие возымеют его слова. Он целился из лука мудрости довольно точно. Стрелы его летели безошибочно. И попали в цель. Восторга еще не было. Но в воздухе уже витало нечто, что сулило оратору некоторый успех.
– Я понимаю, – продолжал Сулла, делая вид, что не замечает каких-либо перемен в настроении сенаторов, – Марий для некоторых из вас был высоким образцом квирита. Иные – я вполне это допускаю – даже любили его. Отчего бы и нет! Я тоже, будучи у него легатом в Мавритании, любил и уважал его. Мало его знал, но уважал. Этого не вычеркнешь из жизни, подобно неудачной фразе в любовном письме. Нет, сенаторы, я понимаю тех, кто привержен Марию. В конце концов, Марий не один год существует среди нас. Верно, он не раз избирался консулом. А это кое-что да значит!
Многие порадовались этим словам. Выражение лиц изменилось. Сенаторы уже не глядели на Суллу словно волки. Погода здесь менялась на глазах у всех присутствовавших при этом. Если все еще не было слышно приветственных возгласов, то следует иметь в виду, что речь еще не окончена. Семейографы работают в поте лица своего, торопятся за Суллой, который говорит, все говорит…
– Сенаторы! – Сулла поднял правую руку, точно хотел дотронуться до потолка. – Мы скорбим о жертвах, которые понесены с обеих сторон, о разрушениях! Ведь речь идет о Риме, о нашей с вами республике, о нашем с вами народе!.. Я думаю обо всем этом, и мне порою делается очень грустно, очень тяжко на душе… Нужно, чтоб жертвы эти не оказались напрасными. Я очень хотел бы, чтобы вы поверили моим словам. Я хотел бы, – подчеркиваю это. Но не требую этого от вас. Ибо надо верить не словам, но делам. Когда дело мое будет у всех на виду, когда вы увидите, что торжествует республика, а не Марий и не Сулла или еще кто-либо другой, – тогда и скажите мне, что вы думаете обо мне, о моих словах, о моих действиях… Итак, первое наше слово и действие должно быть обращено в защиту республики, в защиту наших традиций. Невозможно отбрасывать в сторону наше шестивековое развитие и насаждать тиранию в государстве, которое всегда презирало диктатуру, тиранию. Если греки в свое время придумали демократию, то они же выдумали и тиранию. Они испытали и то и другое. Но где же эти греки? Где их государство? Они превратились в жалких грекосов, а государственность их растоптана врагами. Причем главными врагами своей государственности явились не кто иные, как они сами, греки. Вот вам, сенаторы, парадокс: народ, сгубивший сам себя! Но…
Здесь Сулла сделал долгую паузу. Он скрестил руки на груди и словно бы задумался. Это «но» на мгновение озадачило сенаторов. Через это «но» не так-то просто перейти и самому оратору, ибо не было это слово обычным. То, что следовало за ним, должно было окончательно убедить сенаторов в том, что они глубоко заблуждались. Это надо было сделать не далее как через минуту… Никак не далее!
– Но Рим – не Греция. Не для того жили и боролись наши предки в течение шести столетий, чтобы на шею римскому народу уселся некий диктатор – будь то Марий или кто-либо другой. Власть в Риме принадлежит сенату, и только сенату!
Растопил, наконец-то растопил Сулла холодные сердца сенаторов. Одобрительные возгласы послышались то здесь, то там. Отцы отечества зашевелились: им были приятны эти слова. А почему бы, собственно, и нет? Разве они не были людьми? Разве тоги, отороченные пурпурными лентами, и сенаторские башмаки делали их какими-нибудь особенными? Между прочим, все человеческое оставалось с ними, ничто им не было чуждо, и дворцы на Палатине не превращали их в богов. Лучше всех, пожалуй, знал это Сулла. И, зная это, просто презирал их. Сколько бы ни пыжились эти так называемые отцы так называемого отечества, они оставались посредственностями – в этом Сулла совершенно был уверен. Глядя на них с высоты сенатской трибуны, он как бы читал на лицах их дурацкие письмена, начертанные невидимой рукой невидимой краской. Можно поражаться одному, как это они правят Римом? Разве это не сплошной самообман? Кто поверит, что это сборище толстых, толстенных, архитолстых, жирных, лысеющих и облысевших мужчин и впрямь правит Римом! Однако самообольщение подчас бывает бальзамом: пусть думают они, что правят Римом, вовсе не надо их в этом разубеждать. Напротив, стоит укрепить их в этом мнении. Надо дать им почувствовать величие их власти, их значение во всей вселенной. Сулла едва скрывал презрение к этой кучке лентяев, которые лучшим местом времяпрепровождения считали бальнеумы, бассейны с горячей и холодной водой и невыносимые парилки…
– О сенаторы! С горьким чувством придется мне поведать вам, что Марий, вознамерившийся пробраться в диктаторы, как нам стало известно, сбежал самым позорным образом. Это точное, вполне достоверное сведение. Вместо того чтобы явиться сюда, к вам, и в честном споре доказать свою правоту, он, переодевшись в одеяние восточного купца, приклеив себе бороду, бежал из города. Да, да, бежал, как комедиант! А ведь ему доверяли консульскую власть!
Сообщение Суллы действительно поразило сенаторов. Одни из них сразу поверили, другие – нет. «Неужели, – спрашивали себя эти, последние, – Марий мог так унизиться? Неужели не хватило у него смелости явиться под покровительство сената и выступить в сенате?»
Сулла говорил:
– Нам не надо ничего. А желали мы только одного – услышать здесь голос Мария, спросить у него: зачем ему понадобился диктаторский пост? Разве римские законы не дают достаточно прав действовать смело, высказываться смело, смело бороться за свои убеждения? Нет, сенаторы, не это ему надо было! Он помышлял совсем о другом. Ему нужна была власть, он был опьянен ею. Я понял бы его, если бы у него вовсе не было власти, если бы его, консула, лишили возможности исполнять свои обязанности. Я понял бы, если бы молодость и тщеславие толкали его на захват всей власти. Впрочем, наверно, и старости свойственно тщеславие, неумеренное властолюбие. Вкус власти, однажды испытанной, не дает уже покоя всю жизнь. Но ведь всему есть предел! И седина должна сдерживать необузданную страсть, а не разжигать ее. Марий своим позорным бегством, своим переодеванием окончательно лишил себя всяческого уважения римского народа. Теперь остается ждать развязки, и она не столь уж далека.