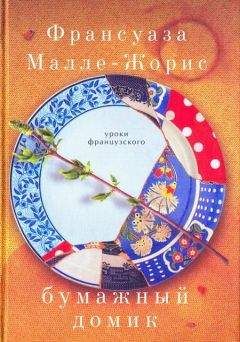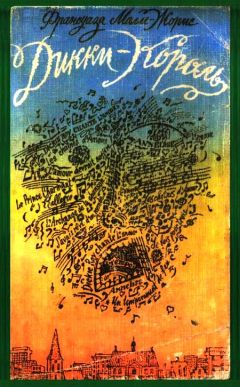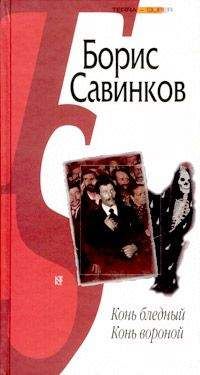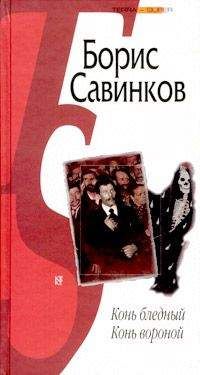Франсуаза Малле-Жорис - Три времени ночи
— Но тебе ее похвалы, наверно, доставили удовольствие? Испытала ли ты дьявольский соблазн?
Возбуждение матери, ее горячность, поцелуи, скорый гнев — все повергало Элизабет в трепет, и она сама себе казалась виноватой.
— Нет, мама, клянусь!
— А кто мне поручится, что ты не лжешь? Что ты уже не развратилась, не осквернила себя? Твой несчастный отец… Так что давайте признавайтесь, признавайтесь…
Она сжимает девочку, трясет. Стоит только проявить слабость — и все пропало. Как ненавидит Клод свое собственное тело, которое пусть иногда (о так редко, — капитан ни о чем не догадался), пусть один-два раза, но все же постыдно предавало ее!
— Правду, говори правду!
К кому она обращается, к ребенку или к своему телу, которое, изголодавшись от долгих ожиданий (Клод не может этого забыть), пару раз пришло в возбуждение в темном алькове.
— Правду, говори правду!
Сведенное судорогой лицо матери, ее изменившийся голос пугают ребенка.
— Мама, вы делаете мне больно, отпустите, отпустите же…
Внезапно мать отпускает ее.
— Так же крепко держит грех, так же крепко…
И она уходит под бременем своих мук. Элизабет долго еще всхлипывает, сама не зная почему.
Как-то раз один маленький мальчик захотел ее поцеловать, она укусила его за щеку.
Элизабет должна была почувствовать облегчение, поступив в школу к сестрам-монахиням, но этот семилетний ребенок слишком замкнулся в себе, слишком застыл в оборонительной позе, чтобы без стеснения разделять забавы детей своего возраста. Вскоре ее уже зовут дикаркой на радость Клод де Маньер. Над каждым прожитым днем они размышляют вместе.
— Ты уверена, что не подвергалась искушению? Ни на единое мгновение?
Мать со всею пылкостью преследовала не только грех, но и любое движение дочерней души, самое малое ее колыхание.
— Ты хорошо поработала, но ведь это потому, что желала похвал?
На следующей неделе безучастная Элизабет уже во всем последняя, и капитан получает возможность продемонстрировать свою язвительность:
— Малышка глупа. Если раньше она была на хорошем счету, то это сказывалось мое влияние.
Девочка и не пытается оправдаться. После минутного изумления Клод испытывает смесь восхищения и беспокойства. Не вооружила ли она свою дочь так хорошо только против ее самой? Когда они остаются вдвоем, Клод ищет во взгляде Элизабет желание снискать одобрение, призыв к сообщничеству, но не находит.
— Ваше поведение мне кажется неестественным, — строго говорит она.
У семилетней Элизабет по щеке течет слезинка.
— Дорогая!
Сердце у Клод разрывается, и она сменяет гнев на милость.
— Ты ведь сделала это для меня, правда, мое сокровище?
— Для вас и для Бога, — отвечает девочка.
— Это одно и то же, — счастливо вздыхает Клод.
Пора, когда любовь к матери и любовь к Богу вступят в противоречие, действительно еще не наступила, Элизабет восхищается матерью, восхищается той яростью, с какой она побеждает себя, страстной ненавистью к счастью, заменяющей ей добродетель, и старается во всем ей подражать. Эти старания в столь нежном возрасте не обходятся без внутреннего протеста. Элизабет проходит суровую закалку, приобретая такую стойкость, что впоследствии в самых тяжелых обстоятельствах ей никогда не изменит самообладание. Чувствительность ребенка, уже находясь под гнетом молодой воли, обретает убежище в мечтах.
Притягательный и отталкивающий образ жестокого отца, способного ее убить, со временем усложняется, представляется в ином свете.
— Вы должны любить отца, — говорит Клод, являя собой пример уважительности и покорности. Малейшее упущение в этом отношении наказывается со всей строгостью, будь виновата Элизабет или кто-нибудь из служанок. Однако тут скрывается предостережение, и тревожный взгляд Клод следит за каждым движением Элизабет: не вздумает ли вдруг отец проявить к ней хоть какой-нибудь интерес. На словах предосудительным считается не выказывать отцу любви, но тайно, в глубине души Клод полагает достойным порицания поддаваться очарованию его громкого голоса, огромных сапог и того духа, какой мужское присутствие всегда привносит в домашний уклад. Элизабет стыдно, когда она поддается этому очарованию. Она знает, что этим предает мать и добро. Конфликт обретает плоть в кошмаре: Элизабет видит огромные чудовищные существа, которые хотят ее задушить. Может, в фантасмагориях в извращенном виде предстает перед ней материнская любовь? В бессознательном раздвоении она зовет такие существа бесами. Ни Клод де Маньер, ни сестры-монахини не удивляются тому, что семилетний ребенок одержим «бесами». Напротив, они видят в этом показатель блестящей будущности. Тайный стыд выливается в гордость, образуя взрывоопасную смесь. Отец заявляет:
— Мало того, что девочка слабоумная, мать, по-моему, сделала из нее сумасшедшую.
В своем сомнении он дойдет до того, что примется колотить дочь. Элизабет никогда не плачет. Это девчушка редкой красоты, с живым, проницательным умом, с характером, с каждым днем все более и более мужественным. Однако Клод де Маньер не ошибается: в ребенке созрело сопротивление, о котором он сам не догадывается; мать замечает это и, страдая, готовится его подавить. Подозревая, что девочка станет кичиться своей красотой, и прежде всего восхитительными волосами, она заставляет Элизабет их остричь. Если учитель музыки хвалит исключительные способности Элизабет, ее обаяние, голос, мать умело возбуждает в ребенке совестливость, граничащую с ужасом.
— Похвалы ничего не значат, если в них не черпаешь наслаждения. Я слишком хорошо знаю свою Элизабет.
Элизабет колеблется, краснеет, возмущается и после внутренней борьбы говорит:
— Я хотела бы, мама, прекратить занятия музыкой.
Клод спешит пойти навстречу желанию Элизабет, одобрить побудившие его причины.
— Какое счастье, мое золотце, видеть, что ты, такая молодая, защищена от мирской суетности, и это с твоей красотой, с твоими способностями.
Клод хочет, чтобы, принадлежа ей, дочь оставалась красавицей. Глухое ожесточение девочки, чувствующей, что ею помыкают, лишний раз подавляется гордостью. Следует еще одно перемирие. В свои десять лет Элизабет и правда образцовый ребенок. Она красива, хорошо воспитанна, умна, благочестива. Именно так о ней говорят, и именно так она думает о себе, ее образ уже скован жильной породой, и Элизабет старается из него не выходить, но время от времени ее окаменевшее сердце все же гложет тревога. Ох, если бы прекратились эти вопросы: «Ты говоришь правду? Это действительно так?» Характер ребенка становится все более неровным, Элизабет иногда раздражается, не понимая, что все эти бесконечные вопросы сводятся к одному: «Ты любишь меня? Очень любишь?»
Клод слишком себя ненавидит, чтобы просто приписывать себе право на дочернюю любовь; однако, становясь на место Бога, присваивая себе его полномочия, она может косвенным образом на нее претендовать. Элизабет начинает мечтать об одиночестве, о том, чтобы отправиться босиком в поле с одной горбушкой хлеба в клетчатом платке, уединиться на горе, молясь там за всех, питаясь акридами, между тем как у подножия толпа почитала бы ее в благоговейном молчании. В молчании и в отдалении; эта детская мечта (почти такой же мечте предавалась святая Тереза, когда ребенком убежала с братом из дома) выражает робкое желание, потребность, в которой Элизабет не осмеливалась себе признаться: она хотела иметь право на одиночество, прежде всего внутреннее. Быть отшельницей. Элизабет упивается этой мечтой, как и другими, менее невинными грезами. Она представляет себе грот, принадлежащий ей одной, скромный чугунок, где она будет варить желуди, травы, — то, что в ее катехизисе именуется «кореньями». «Они питались лишь травой и кореньями», — прочтет она при свете свечи в толстой книге, сидя с рассыпанными по плечам волосами, подобно Марии Магдалине на картине в отцовском кабинете. Может, ее придут мучить кривляющиеся бесы, но она безучастно станет перебирать четки, пока бесы не исчезнут. Клод застает ее с туманным взором, отсутствующую — благочестивая книга с красивыми картинками лежит у ее ног.
— Элизабет!
Гневный окрик, но в нем и любовь. Элизабет вскакивает, краснеет.
— Что вы делаете? О чем думаете? Я требую, слышите, требую…
— Я думала о Боге, о том, чтобы стать отшельницей на горе.
— Лжете!
Она говорит правду, однако у нее ужасное предчувствие, что она все-таки невольно лжет, что-то лжет в ней, но что, как? Элизабет смущается, у нее кружится голова, и она лишь жалко повторяет:
— Я клянусь, мама, клянусь… отшельницей на горе.
— Лжете, лжете! Я заметила, как вы покраснели, почему вы покраснели?
— Не знаю, мама, клянусь, я думала о горе, о пещерах, о святой Терезе.