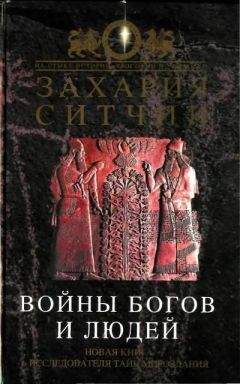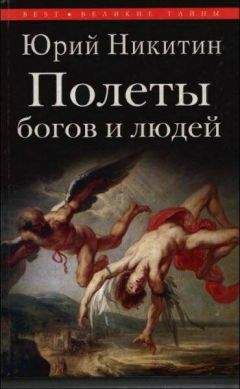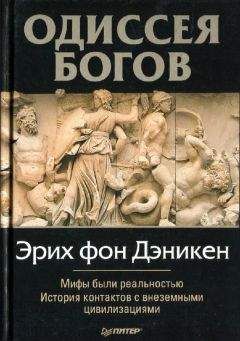Н. Северин - Звезда цесаревны
— Я, Федюша, не такой ученый, как ты, — возразил со смущением старик. — Послушал бы ты тех, с которыми я живу с тех пор, как Господу Богу было угодно призвать к себе твою мать! — прибавил он со вздохом. — Все здесь, ему потрафляючи, на блуд, да на пьянство, да на всякое греховное воровство как на пустяки смотрят…
— Царевичу Алексею ведь уж пятнадцатый год идет, каково ему все эти безобразия выносить? Каково ему знать про терзания матери и не иметь возможности ничем ей помочь? — продолжал размышлять вслух Федор. — Он в нашей вере хорошо начитан и большое имеет пристрастие к духовному просвещению — все, значит, может понимать, как настоящий русский человек. Каково ему видеть, что отцом его овладел дьявол, на пагубу Русского государства? И ты только проследи, батюшка, с каких пор пошла эта пагуба: с той самой распроклятой немки, гулящей девки Монсовой, что соблазнила его распутством да иноземными бесстыдными ухватками. Вот он, дьявол-то! Как тут лукавства его не видеть?.. Она на него и остуду к царице напустила, и ненависть ко всему русскому; не попадись она ему на глаза, жил бы теперь по-божески и правил бы царством по божеским, а не по бесовским законам! С кем только она ни путалась, начиная с чертова сына Лефорта, при котором в любовницах состояла, когда царь ее в наложницы себе взял! И из-за такой мерзавки он свою законную супругу, русскую царицу, в монашество силой постриг и в горькой нужде держит! Ведь все это царевичу известно — ему девятый год шел, когда его мать стали тиранить, он все это помнит…
— Тише ты, тише, ради Бога! Не знаешь разве, что за такие слова люди голову на плаху кладут? — прервал его отец, боязливо оглядываясь по сторонам и хватая его за руку, чтоб заставить смолкнуть.
— Знаю, батюшка, все знаю, а потому так и думаю, так и говорю, — отвечал он с загоревшимися решимостью глазами.
— Откуда ты знаешь? С кем ты тут сошелся? Кто тебе все это рассказал? Про это под страхом смертной казни запрещено разговаривать!
— Ну и пусть казнят, а пока буду про царевича, про моего будущего государя, у тех, кто знает, расспрашивать, чтоб знать, каких он мыслей держится и чего нам от него в будущем ждать…
— Не попадись! — чуть слышно вымолвил старик.
Он был так удручен, что не в силах был даже спорить с сыном и доказывать ему, что он идет на гибель.
— Если и попадусь, так не за себя одного, а за всю Россию пострадаю. Таких-то, которые думают, как я, много, батюшка.
— С Монсовой у него уж давно связь распалась, — робко попытался отец заступиться за царя.
— Ах, батюшка, точно вы не знаете, что другая немка залезла ему в сердце, и которая будет для нас хуже, одному Богу известно, — угрюмо возразил Федор. — Брось ты его обелять, батюшка: черного белым не сделаешь, как ни старайся, а ты лучше сам раскинь умом, к чему он все это ведет и чем это может для нашей родины кончиться! В какую пришел ярость, когда узнал, что без него царевич к матери в Суздаль ездил! С радостью он у него из тела сердце бы вырвал — вот он как ненавидит его за то, что вместе со всеми русскими людьми отверженную царицу, мать свою родную, любит и уважает…
— Ах, Федюша, Федюша! На беду я тебя сюда из Москвы выписал! — проговорил сквозь слезы старик.
— Не жалей об этом, батюшка: что судьбой положено, того не избегнешь. Я бы и там познакомился с людьми, преданными царевичу, которые мне открыли бы глаза, и даже, может быть, скорее, чем здесь.
— А я-то хотел тебя туда назад отправить!
— Нет, батюшка, я уже теперь слишком много знаю, чтоб оставлять тебя здесь, с этим зверем, одного. Погибать — так уж вместе. Чует мое сердце, что, расхрабрившись удачами, он таких понаделает бед, что и твое незлобивое и ослепленное сердце от него отвернется, и тогда с кем же ты тут останешься, если меня не будет?
Федор Ермилович был прав, предчувствуя беду, — скоро, очень скоро обрушилась беда на их головы…
Катастроф, подобных той, в которой погиб старик Бутягин, в то страшное время было такое великое множество, что воспоминание о ней сохранилось только в памяти пострадавших, в истории же подробностей о ней нет. Что значила гибель старика, отказавшегося исполнить какое-то новое приказание царя, потому что он считал его противным законам совести, в сравнении с великим множеством именитых и богатых бояр, замученных и казненных, сосланных в Сибирь и разоренных за то, что они осмеливались отстаивать свои убеждения, которые в то же время были и убеждениями всего русского народа?
Старику Бутягину еще посчастливилось: перед смертью ему удалось повидаться с сыном и взять с него клятву, что он не кинется очертя голову в омут, не попытавшись принести посильную пользу родине.
— Всего нашего рода двое остались: ты да я. Меня жалеть нечего, жить осталось мне недолго, и плакать о себе я тебе запрещаю…
Слова эти долго звучали у Федора в ушах так неотвязно, что часто ночью он, как ужаленный, срывался с постели, чтоб упасть на колени перед образами и молить Бога о пощаде. Угнетаемому сознанием, что причина гибели отца — он, ему было не до того, чтоб заботиться о собственной безопасности, и он оплакивал своего родителя во всеуслышание, объясняя каждому встречному и поперечному, что отец его пострадал невинно из-за него, потому что царь невзлюбил его с первого взгляда… Никто еще не осмеливался так громко, как он, называть царя человеконенавистником и душегубцем. Может быть, это и спасло его: репутация помешавшегося с горя за ним утвердилась… как и за многими другими.
Многих тогда новые порядки доводили до сумасшествия.
Искать встречи с царем, чтоб высказать ему в глаза то, что накопилось против него на душе, сделалось у него неотвязчивой идеей: он об этом мечтал день и ночь, а чуть заснет — мечта его осуществлялась; он видел себя перед царем и бросал ему в лицо свое проклятие, да так громко, что он часто просыпался от собственного крика.
Узнавши о постигшем его горе, дед прислал к нему доверенного человека, чтоб привезти его назад в Москву, но Федор Ермилович и слышать об отъезде из Петербурга не хотел до тех пор, пока царь не уехал надолго в чужие края.
— Что ж тебе теперь здесь делать, барин? Поедем в Москву, — стал уговаривать его дедов посланец, и на этот раз с успехом.
Федор Ермилович решился покинуть Петербург. В Москве он повел себя иначе; здесь жил цесаревич, и можно было опасаться, что дерзкие речи его приверженца пагубным образом отразятся на его и без того печальном положении. Сам ли Федор Ермилович додумался до этого вывода или кто другой натолкнул его на эту мысль, так или иначе, но это имело для него благотворные последствия. Возбуждение его успокоилось и сменилось потребностью уединения и молчания, и сам дед настоял на том, чтоб он переехал жить в монастырь св. Саввы, где был недавно назначен настоятелем его приятель.
Вскоре после того дед умер, и Федор Ермилович оказался богатым человеком. Но враги его не дремали, и настоятель монастыря, в котором он нашел убежище, получил предписание склонить живущего в его обители слабоумного дворянина Федора Бутягина добровольно принять монашество, а доставшееся ему наследство пожертвовать царю на военные нужды, дабы таким поступком искупить содеянные им в безумии публичные бесчинства в городе Санкт-Петербурге пять лет тому назад, после казни государственного преступника Ермилы Бутягина, его отца.
Каждое слово этого предписания было чревато угрозами, и самое слово «добровольно» звучало такой иронией, что надо было быть действительно безумным, чтоб не покориться заявленному требованию.
Федор Ермилович покорился и принял постриг, лишавший его права владеть каким бы то ни было имуществом. Когда он отдал все свое состояние в казну, у него остался на пропитание только небольшой хуторок под Москвой в близком соседстве с Лыткиными, с которыми семья его испокон века состояла в дружеских отношениях. Перед постригом он фиктивно продал этот клочок земли с усадьбой и садом соседям, а когда у приемной дочери Авдотьи Петровны родился сынок, к которому его попросили в крестные отцы, он подарил на зубок своему крестнику Филиппушке в полное владение свой хуторок.
Все это делалось без документов, на совесть, но тогда на Руси еще были люди, которые ставили совесть превыше всех человеческих законов и не задумываясь шли на смерть за право сознавать, что остались ей верны.
VI
Пообедав принесенными Дарьей щами и пшенной кашей на молоке, Ермилыч пустился в путь.
Прошло более двадцати лет с тех пор, как он отсюда уехал, и за это время воздвиглось такое великое множество зданий и произошло столько перемен в строе русской жизни, что надо было только дивиться, как быстро нашел он Невскую першпективу, обсаженную высокими душистыми липами, и Летний сад, представлявший в его время почти пустое пространство, усаженное крошечными деревцами вдоль правильно распланированных аллей и дорожек, с белевшимися на юру привезенными из-за границы статуями и пестро размалеванными беседками. Теперь все это красиво выглядывало среди изумрудной зелени разросшихся высоких деревьев.