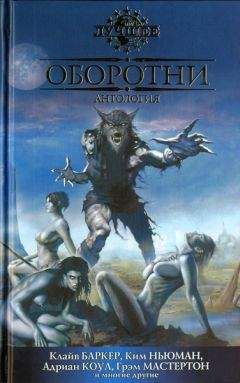Иван Наживин - Распутин
— А где он теперь?
— Кажется, в Голландии: бриллианты церковные продавать повез… — сказал равнодушно Яков Григорьевич. — Он и в плену у белых был, и к расстрелу был приговорен, а нет, все вывертывается!.. Да что: шалый совсем человек… Ну, Феня, — обратился он к жене. — Нам пора… Э, кельнер, цален, битте шен![89] А вы, если красными не гнушаетесь, милости просим к нам, будем очень рады… — улыбнулся он всеми своими белыми крепкими зубами Евгению Ивановичу.
— Да, да, пожалуйста… — поддержала красавица. — И может быть, о наших земляках что услышите, так пожалуйста, дайте мне знать…
— Хорошо…
— А ежели домой захочется, в Россию, только словечко скажите, вмиг устроим… — сказал Яков Григорьевич.
— Да ведь я в белогвардейцах числюсь… — слабо улыбнулся Евгений Иванович, которому Яков Григорьевич как-то нравился.
— Вот важная штука: белогвардеец! — засмеялся тот. — Подкрасим маленько снаружи, и готово… Умные люди на эти глупости смотреть не будут, а на дураков глядеть нечего…
— А чека? — сказал Евгений Иванович.
— Чека… Что — чека? Чека опять для дурачка, который хочет все напролом взять, а умному человеку чека не страшна… Ну, однако, едем, едем, Феня, время… Так милости просим: самоварчик поставим, закусочку соорудим, все честь честью… Имею честь кланяться… Было очень приятно…
Корректный обер-кельнер, давний социалист, получив оглушительный Trinkgeld,[90] почтительно согнулся пред новыми русскими Durch-laucht…[91]
И в огромное окно видел Евгений Иванович, как почтительный шофер подал им великолепную машину, как заботливо укутал им ноги великолепным покрывалом… И Яков Григорьевич приветливо помахал ему рукой, а Феня ласково улыбнулась.
— Ого! — сказал, подходя к нему с улыбкой, богатый издатель. — Какие знакомства, однако, у вас!..
— А что?
— Да так… Советский вельможа…
— А разве вы знаете его?
— И даже очень. Дельный парень… — сказал, садясь, издатель. — Вот тут наши правые ослы только и твердят: вешать, вешать… Вешать дело дурацкое. Нет, ты вот приспособь такого молодца к своему делу, это вот так! Он у меня много всяких книг покупает для России и платит чистоганчиком. Сперва думал, что будет в выборе строг, — оказалось, что и в выборе не особенно стесняется. Широко, толково работает. Как уж он там с нашими изданиями устраивается, не знаю, но берет и платит… Э, кельнер!.. Мокка, пожалуйста…
XXXIII
НАСТЯ
Евгений Иванович, отдыхая, — он проходил весь день по Берлину в поисках работы — сидел в одном небольшом кафе на Вестей и передумывал уныло эти отравленные думы свои в то время, как глаза его рассеянно скользили по объявлениям «Руля»{223}. И вдруг точно что толкнуло его:
Боже мой, в Японии!
Он даже задрожал весь, торопливо рассчитался с кельнером и бросился на телеграф. «Я в Берлине, — написал он на разлинованном бланке. — Адрес: Charlottenburg, Kantstr., 22. Немедленно телеграфируй есть ли средства переехать Европу. Где мама?» Телеграмма по беженскому масштабу стоила больших денег, но он был так рад возможности соединиться с семьей, что буквально не спал, не ел, ничего не мог делать и только все ждал звонка рассыльного с телеграфа, уже заранее приготовив ему хороший Trinkgeld. И наконец ответ пришел, и у Евгения Ивановича просто руки опустились: адресат выбыл неизвестно куда. Он заметался: что делать? И решил напечатать объявления во всех русских заграничных газетах о розыске семьи.
И потянулись сумрачные тяжелые дни ожидания…
И вдруг телеграмма: «Мы Марселе все живы здоровы мама осталась Окшинске подробно письмом». Опять все просветлело. И пришло престранное письмо, целая русская обывательская Одиссея{224}, похожая на роман Жюля Верна.
Не получая никаких известий от мужа из Казани, Елена Петровна не вытерпела, наконец, и вместе с детьми выехала на розыски его на восток. Анфиса Егоровна ни за что не хотела покинуть Окшинска, говоря, что единственное место, куда ей осталось теперь ехать, это Княжой монастырь, где у нее уже давно была откуплена семейная могила. С ней осталась Федосья Ивановна, которая в провожатые своей молодой хозяйке дала свою племянницу Настю, бойкую и толковую девицу, занимавшуюся в последнее время мешочничеством: этим способом она кормила и свою семью, и даже семью Евгения Ивановича. Уже проехав Казань, они нашли в каком-то глухом городке Николая Николаевича Ундольского, который, беспомощный и жалкий, не знал, что делать среди этой до дна взбаламученной жизни. Он лихорадочно вцепился в земляков, и Настя приняла его под свое ловкое покровительство. Они пробрались к Колчаку и вместе с отступавшими, разлагаясь, белыми докатились каким-то чудом через всю Азию до Японии. Николай Николаевич, превратившийся под влиянием перенесенных ужасов — они не раз попадали даже под обстрел — и лишений в какого-то ребенка, давал на все средства — у него за границей оказались большие суммы, — только бы не покидали его на произвол судьбы. И он уговорил Елену Петровну кружным путем проехать в Европу, и вот они через Китай, Индию, Египет приехали в Марсель и увидали в русских газетах объявление Евгения Ивановича.
Теперь предстояло решить, что делать дальше. Елена Петровна писала, что там очень хорошо и что французы относятся к русским беженцам прекрасно, а Евгений Иванович писал, что и в Германии недурно и что немцы относятся к русским — надо бы лучше, да нельзя. Они попробовали нейтральную и тихую Швейцарию, но свободная демократическая республика отказала бесприютным в приюте: это не голланды с гульденами, не англичане с фунтами, не американцы с долларами… В Германии было значительно дешевле, и поэтому было решено устроиться в Германии. Как раз в это время Евгений Иванович получил письмо от Фрица Прейндля, который уговаривал его приехать в тихую Баварию и предлагал даже небольшой теплый меблированный домик неподалеку от себя в тихом, уютном, зеленом местечке К.: они будут вместе работать над его книгой о Russentum. Николай Николаевич умолял позволить и ему жить у них пансионером: он боялся новых революций, новых потрясений, он боялся решительно всего, а тут была, по крайней мере, Настя, которая уже провезла его чрез бескрайнюю Сибирь, всю объятую огнем бессмысленных восстаний…
Начались бесконечные хлопоты с визами. Государственно мыслящий элемент сделал из переезда через границы дело государственной важности. Тысячи и тысячи всяких мазуриков, игнорируя все эти рогатки, делали свое дело и чрез границы, но зато миллионы лояльнейших людей выли волком. Бесконечное количество нужных дел стояли несделанными, жизнь расползалась по всем швам, а государственно мыслящие с важным видом вели бесконечные рассуждения и переписку о том, можно ли одной семье снова соединиться вместе! Но все препятствия были, наконец, побеждены, и вот снова вся семья радостно соединилась на небольшой, хорошенькой виллочке «Bergfried[92]» среди зеленых гор и лесов.
А через день-два в уютном хорошеньком домике Елена Петровна уже хлопала — нечаянно — дверями, и валялся в столовой на стуле чей-то заношенный носовой платок, и у Наташи на пальто не хватало двух пуговиц. Николай Николаевич не замечал ничего этого — он все искал в местных газетах и в разговорах с соседями-баварцами подтверждения того, что никакая революция в Баварии больше уже невозможна. Он очень подружился с детьми, хотя и считал их почему-то большими чудаками, — раньше детей он как-то не видел близко, считал их nuisanct[93] и даже говорил, что вообще дети заводятся от нечистоты. Евгений Иванович уходил один в зеленые горы, и иногда в глазах его — чаще, чем прежде — проступало свойственное ему мученическое выражение. Дом держался, в сущности, на Насте, крепкой девице с татарским скуластым лицом, белокурыми волосами и маленькими бесцветными глазками. Она все прибирала и налаживала, молча и естественно, считая, что в этом и есть главная задача ее жизни, пекла чудесные пироги, варила квас, устраивала удивительную окрошку, штопала, шила и, выучив десять-двенадцать слов по-немецки, учила немцев, как надо правильно говорить по-немецки:
— Говорит: саляд… Какой это такой — саляд? — выговариваю я ей. — Что ты маленькая, что ли, картавить-то так? Не саляд, а надо говорить твердо, правильно: салат. К чему это пристало так коверкать язык?
И немцы относились к чистоплотной, расторопной и уверенной в себе Насте с полным уважением: nettes Mädel, sehr brav…[94] Настя во многом одобряла заграничные порядки, но все же находила, что «раньше у нас было куды лутче». Китайцев порицала она за косы — словно девки какие да опять же и морды обезьяньи… — а индусы и черны уж очень и вроде ряженых, какие у нас на Святках бывают, африканцы уж больно губасты, а французы в Марселе, хотя в работе и усердны, но очень уж шумят. Как раз, когда были они на юге Франции, там происходили какие-то выборы: собрания, афиши, крик… Настя чрезвычайно не одобрила это.