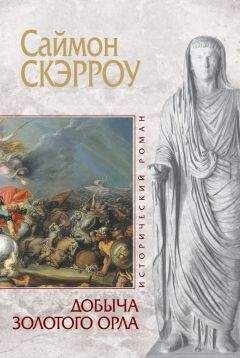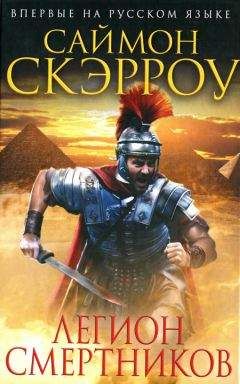Ирина Головкина (Римская-Корсакова) - Лебединая песнь
Врач приглаживал перед зеркалом волосы меленьким гребешком.
– Пока пациентки нет, не скажете ли вы мне: какого характера душевные переживания? – спросил он.
– Несколько дней тому назад расстрелян ее муж по обвинению в контрреволюции. Пока тянулся процесс, она успела уже известись, а теперь…
Врач нахмурился.
– Елизавета Георгиевна, я никак не мог ожидать, что, повинуясь вашему приглашению, попаду в скомпрометированную семью! Вы меня поставили в очень неудобное положение. Извините меня, – и он протянул руку к пальто.
Елочка стояла, как громом пораженная.
– Я привыкла думать, что врач и священник не отказывают ни при каких случаях, – отважилась возразить она.
– Все зависит от обстановки, – и, поклонившись, врач поспешно вышел.
«Что же это? Господи, что же это!» – думала она, стоя посередине передней, которая одна из всех комнат Натальи Павловны еще сохранила нетронутым прежний барский вид, благодаря уцелевшему гарнитуру с вешалкой, зеркалом и подзеркальным столиком.
Снова послышался звонок.
«Одумался! Совесть заговорила», – подумала Елочка и поспешно распахнула двери… Перед ней стояла старая дама с респектабельной осанкой и такой же респектабельной сединой; английский костюм, лайковые перчатки, белоснежное жабо – все было верхом distingue [123], хотя все уже ветхое.
– Юлия Ивановна! – воскликнула Елочка, бросаясь навстречу старушке.
– Здравствуйте, дитя мое! Я хотела бы увидеть Асю. Я с большим трудом выхлопотала ей новую отсрочку выпускных экзаменов. Необходимо, чтобы она теперь же явилась в техникум расписаться в приказе и немедленно приступила к занятиям, иначе…
– Юлия Ивановна! К сожалению, это невозможно! Ася заниматься не в состоянии: мы только что вернулись с панихиды по ее мужу, который расстрелян.
Старая учительница опустилась на стул.
– Мне передали, что он арестован, но я не знала, что все обстоит так трагично. Бедная крошка! – сказал она с нежностью и после нескольких минут молчания прибавила: – В этой девочке гибнет редкий талант! Мазурки Шопена и миниатюры Шуберта и Шумана она играла лучше законченных пианистов. Крупная форма ей меньше удавалась.
Она скорбно задумалась, Елочка в почтительном молчании стояла перед ней.
– Странная и хрупкая вещь – талант! – заговорила опять Юлия Ивановна, видимо, погруженная в свои мысли. – Всякий раз, когда мне в руки попадает высокоодаренный ученик, я уже заранее дрожу над ним, и непременно случится что-нибудь, что помешает мне вырастить из него большого музыканта. Способные и малоталантливые блестяще заканчивают консерваторию, а неповторимые… На старости лет это становится моей трагедией. Ася была последней моей надеждой!
Глава тринадцатая
Танька Рыжая с копной завитых, во все стороны торчащих волос, с ярко размалеванными губами и ногтями, разгуливая по камере смертников, уверяла окружающих:
– Мне помилование выйдет в обязательном порядке. Даже не тревожусь! Права не имеют пристукнуть: мне еще восемнадцати нет! – и, показывая кукиш, прибавляла: – Накось, выкуси!
Она убила кастетом банковскую кассиршу. Со страхом взглядывая на эту девицу, Леля напрасно старалась уловить что-нибудь похожее на угрызение совести – одна наглая беспечность бросалась в глаза. Тюремные окна выходили во двор, ограниченный другим зданием с окнами таких же камер. Таньку Рыжую можно было часто видеть у окна переглядывающейся с мужчинами. Теми или иными знаками она приглашала их наблюдать за своими телодвижениями, чтобы вместе увлечься одной и той же игрой; при этом она обнажалась, как находила нужным. Восемнадцатилетняя Шурочка ложилась лицом вниз, чтобы не видеть этого бесстыдства. Вина этой Шуры была столь же «велика» – работая на обувной фабрике и сдавая на конвейер очередную деталь, она начертала на ней: «Долой Сталина». Учинили следствие и заподозрили одного из рабочих; тогда эта восемнадцатилетняя сирота – воспитанница детского дома смело явилась в местком и заявила на себя, требуя, чтобы освободили ни в чем не повинного товарища по работе. Теперь Шурочка ждала решения своей участи в камере смертников.
Еще сидели три монашки; эти не подавали просьб о помиловании, не подписывались под протоколами – они не хотели вовсе иметь дела с «бесовской» властью. На допросе они не давали показаний, не сообщая даже своих имен; в камере не вступали в разговоры; забившись по углам, они в положенные часы тихо пели церковные службы и никакие выходки и сквернословия Таньки Рыжей, ни окрики надзирателей не останавливали на себе их внимания. Слушая знакомые с детства напевы «Господи воззвах» и «Свете тихий», Леля всякий раз чувствовала, что слезы подступают к ее горлу.
В одну из ночей пришли за соседкой Лели по койке – шансонеточной певицей, обвинявшейся в связях с эмигрантами в целях шпионажа. Широко раскрыв глаза, полные ужаса, следили Леля и Шурочка, как та медленно подымалась и застегивала на себе пальто дрожащими руками. Как раз на другое утро явился конвой за Лелей.
– Не бось, не бось! Прощение, поди, объявят. Вот помяни мое слово: коли днем, значит, благополучно, – ободряюще шептала ей Шурочка.
Подскочила и Танька Рыжая.
– Не нюнь, смотри! Наплюй им в рожу! – присоединила она и свое непрошеное напутствие…
В эту последнюю встречу он поиграл с ней на прощанье, как кошка с мышью.
– Ответ из Москвы получен, – сказал он, вертя конвертом, и смолк, всматриваясь в нее прищуренными глазами. – Москва пересмотрела ваше дело. Ну-с, пишут нам, чтобы мы… – и опять смолк, наслаждаясь видом своей жертвы.
Леля молчала, чувствуя, что дрожит от напряжения, и слыша стук собственного сердца.
– Итак, приговор о расстреле решено… – Новая пауза. Леля все так же не шевелилась. Что дальше? Оставить в силе или заменить? Две секунды его молчания показались ей вечностью, – заменить десятью годами концлагеря. Всего наилучшего, мадемуазель Гвоздика, – и, словно прощаясь с ней, он с насмешливой галантностью вытянулся и щелкнул каблуками, как шпорами. В этом жесте промелькнуло что-то слишком знакомое… что-то старорежимное, напомнившее ей… Валентина Платоновича. «Что такое? Мне померещилось! Неужели же эта кобра в прошлом!…» Он как будто напоследок показал ей себя. Но где же утерялись все те понятия о кастовом благородстве и чувстве чести, которые в те дни внедрялись в сознание вместе с «Отче наш»?
На следующий день Лелю перебросили в Кресты вместе с группой других. Там камера была значительно менее благоустроена, чем в большом доме, и переполнена до отказа – лежали вплотную одна к другой на дощатых нарах и под нарами, кто какое место захватил, матрацев не было вовсе – подкладывали пальто и платки; камера кишела насекомыми. Одним из первых впечатлений Лели была огромная белая вошь, которая ползла по пестрому крепдешину молодой женщины, лежавшей на собственном пальто на полу посреди камеры. Леля едва нашла себе маленькое местечко под нарами, где сидеть можно было только с наклоненной головой. Оно находилось в непосредственной близости к загороженному углу с раковиной и уборной.
В этой камере тоже были монашки, такого же типа, держались также своим кружком и также не отвечали на вопросы следователей и конвойных. Соседками Лели оказались на сей раз две совсем простые старухи. Одну из них – уголовницу, сидевшую за кражу, окружающие прозвали Боцманом за грубый голос и привычку горланить и ругаться; по ночам она храпела на всю камеру. Другая – Зябличиха – была, напротив, очень молчаливая и степенная; она весь день вязала, распустив на нитки свое же трико и сделав себе крючок из зубной щетки. Зябличихе инкриминировалась контрреволюция: как-то раз в очереди за картошкой ее прорвало – она вдруг разговорилась, доказывая, что при царях жилось лучше: картошку и огурцы покупали только ведрами, и добра этого никто и не считал, а о хлебе и сахаре и разговору-то не водилось. Это гражданское выступление оказалось для Зябличихи первым и последним.
Градус общего настроения в этой камере был несколько менее удручающим – заговаривали друг с другом, читали и даже играли иногда в домино за большим столом, который стоял посреди камеры.
Лелю донимали апатия и усталость, пришедшие на смену нервному перенапряжению. Страшная кобра уже не вызовет ее -это служило единственным утешением в безотрадном настоящем и будущем. Ни говорить, ни думать не хотелось, а только спать. Почти все время она находилась в полудремоте. Одно, что занимало ее мысли, – свидание, на которое она имела теперь право. Кто придет к ней? В поданном заявлении она указывала на мать или Асю; она почти не надеялась, что мать жива; в передачах, которые она несколько раз получала, чувствовалась чужая рука – мама и Ася уж наверно сунули бы туда яблочек и ее любимые конфеты «Старт»; они очень хорошо знали, что карамели она не любит и мятные пряники тоже; вот и мыло не то, которое она употребляла обычно. Кто же делал эти передачи? Уж не Елочка ли? Так или иначе, это указывало, что с ее матерью случилось что-то, и слезы душили ее от этих мыслей.