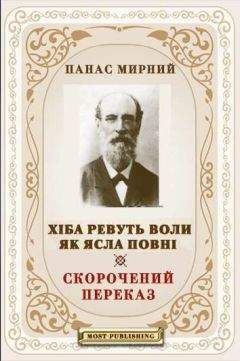Василий Балябин - Забайкальцы (роман в трех книгах)
Сердце Петра затрепетало от радости, когда следом за ним из ограды двинулись четырнадцать всадников. Хорошо вооруженные, а главное — он в этом был крепко уверен — преданные делу революции.
«Фронтовики», — подумал он с восхищением, наблюдая, как ловко садятся они на коней и, выехав в улицу, быстро, без команды выстраиваются в две шеренги. Залюбовавшись ими, он на минуту задержал своего скакуна. Вороной загорячился и, часто-часто перебирая сухими, стройными ногами, словно плясал от радости. Широко раздувая тонкие ноздри, он колесом выгибал сильную шею, грыз удила, норовя вырвать из рук поводья.
— Справа по три! — скомандовал Ведерников. — За мной, ма-а-арш! — И пустил вороного, не давая, однако, ему полной воли.
Оглянувшись, он видел, как его конники мчались за ним полным галопом, и, сквозь гул и грохот копыт, услышал частые, как дробь барабана, трубные звуки: «Тра-та-та. Тра-тра-тра… та-ата!» Трубач белых играл «тревогу».
Вскоре стало видно, что белогвардейцы всполошились, в улицах то тут, то там замаячили пешие и конные, захлопали одиночные выстрелы, а с северной стороны села грохнул залп, второй, третий, отрывисто зарокотал пулемет.
«Началось!» — взволнованно подумал Ведерников и, цапнув из кобуры наган, обернулся к скакавшему за ним Рудакову, радостно воскликнул:
— Наши наступают! Даешь контру!
У площади, на виду у белых он сбавил ходу, перевел вороного на рысь и увидел, как суетились потревоженные обозники. Крестьяне запрягали лошадей, а по пустырю к школе отовсюду бежали пешие семеновцы. Забежавшие в школьную ограду торопливо разбирали, седлали лошадей. В дальнем углу ограды гарцующий на лошади офицер, размахивая нагайкой, кричал на подбежавших туда казаков, — видно, торопил с седловкой, ругал опоздавших.
Партизаны ворвались в ограду и по команде Петра с криками «Бросай оружие!» обрушились на белых.
Ошеломленные внезапным нападением, белогвардейцы побросали винтовки. Сопротивление оказали лишь те, что грудились возле офицера в углу ограды. Молодой черноусый хорунжий, услышав крики партизан, повернул в их сторону коня. Поняв, в чем дело, он что-то крикнул своим бойцам, обнажив шашку, кинулся навстречу партизанам и, сраженный пулей, повалился из седла. Устремившийся за офицером белогвардеец выстрелом из винтовки сшиб одного из партизан, но и сам упал тут же, зарубленный Макаровым. Егор подскочил к коновязи и уже занес шашку на рыжеусого вахмистра, но тот нырнул под шею лошади, и в ту же минуту очутился верхом на другом коне и, разогнав его с места в карьер, перемахнул через забор. Досадуя на себя, Егор повернул обратно и тут увидел, как один из несдавшихся белых, широкоскулый, кривоногий харчен, побежал к тачанке с пулеметом. Поняв его намерение, Егор пришпорил Гнедка, но его опередил Рудаков. Недаром в своем полку Иван считался отличным рубакой. Настигнув харчена около самой тачанки, он, не задерживая коня, чуть приподнялся на стременах и, подавшись всем телом вперед, обрушил на врага быстрый, как молния, режущий удар. Рассеченный почти до пояса, харчен свалился под колеса тачанки.
Сдерживая Гнедка, Егор кинул шашку в ножны, огляделся. Первое, что он увидел, была большая толпа обезоруженных белогвардейцев, партизанский конвой гнал их к школе.
И еще увидел он, как один из крестьян-обозников, широкоплечий, русобородый старик, подобрал чью-то винтовку и, положив ее на забор, бил по белым. Среди семеновцев началась паника, она усилилась, когда в умелых руках Рудакова и Макарова заработали трофейные пулеметы, а с севера в поселок с криками «ура» ворвался со своими партизанами Хоменко. Не успев подобрать убитых, беляки спешно покинули село, отступили по направлению к деревне, откуда прибыли накануне.
Партизаны выставили вокруг караулы и наблюдателей на сопках.
Ожил притихший во время боя поселок: задымили печные трубы, во дворах хозяйки доили коров и под звуки пастушьего рожка выгоняли их на пастбище. По улицам во всех направлениях сновали конные и пешие партизаны. Появились местные жители — мужики, старики и ребятишки, а над зданием школы, на свежевыструганном шесте, заколыхалось алое знамя.
Позавтракав у крестьян, партизаны собрались в школьной ограде, где уже шла деятельная подготовка к выступлению в поход. Все заняты делом: одни подгоняют, чистят оружие, другие ремонтируют сбрую, седла, обувь. Около школьного крыльца густая толпа партизан с лошадьми в поводу: там двое старых казаков, знающих холодную ковку, подковывают лошадей. Десятка два партизан суетятся около крестьянских телег и по указанию Ведерникова составляют вьючный обоз.
Взмостившись на пулеметную тачанку, Хоменко внимательно осматривал окрестности в трофейный полевой бинокль. По данным разведки, белые остановились в двадцати верстах южнее Верх-Каменки, в поселке Михайловском. Там к ним подошло подкрепление, эскадрон конницы из дикой дивизии барона Унгерна. Теперь силы белых еще больше увеличились, и при наличии у них большого количества пулеметов вступить в бой с ними было для партизан крайне невыгодно. Поэтому и решили партизаны отступить из Верх-Каменки немедленно, а чтобы затруднить врагу преследование, уходить тайгой. Вот почему и не брали они с собой крестьянский обоз, а ящики с патронами, снарядами и часть мешков с овсом грузили на вьючных лошадей. Обрадованные этим крестьяне-обозники спешно запрягали своих лошаденок, делили между собою оставшийся от погрузки овес.
Только один обозник не торопился, тот самый русобородый мужик, который стрелял в белых.
Вместо того чтобы запрячь в телегу свою рослую рыжую кобылицу, он постоял около нее, подумал, затем выдернул из телеги железный шкворень, привязал его вожжами вместе с хомутом и седелкой к дуге. Потом, к удивлению окружающих, снял с телеги колеса и с колесами в руках подошел к телеге соседа.
— Сват Захар! А сват? — обратился он к седенькому, с жиденькой бородкой старичку. — Увези, пожалуйста, все это добро и сдай там моим. Всю-то телегу тебе тяжело будет тащить, так я одне колеса посылаю. Телега — черт с ней, живой возвернусь, новую сделаю.
— А сам-то ты куда, али на солонцы заехать надумал?
— Не-ет, какие теперь солонцы! Туда, сват, хочу, к ним, — Сафрон мотнул головой в сторону партизан. — Передай там нашим, старухе. Мстить пойду за сына, я им, подлецам, за Сашку моего… — Голос старика дрогнул, перешел на хриплый, с присвистом, полушепот: — Эх, сват… гребтит на душе… Нету больше сил моих терпеть.
Махнув рукой, он отвернулся, закинул за спину приобретенную здесь винтовку и, с кобылой в поводу, направился к Хоменко, который все еще стоял на тачанке и смотрел в бинокль.
— Дядя Сафрон! — радостно воскликнул Егор, подбегая к старику, в котором узнал своего посельщика Анциферова. — Ты откуда тут взялся, здравствуй!
— Егорша, здравствуй, родной, здравствуй! Из дому я, откуда же больше, в подводах вот вторую неделю тиранят.
— Как живете-то там, мама-то как, здорова?
— Да ничего-о-о, жива, здорова, недавно видел ее, разговаривал. Ну, конешно, печалится старуха шибко, об тебе особенно. С осени, говорит, с Семенова дня, ни духу про тебя, ни слуху.
— В тайге жил, письмо-то написать недолго бы, а как его переслать?
— Я тоже ей толковал, ну мать, сам знаешь. А брат твой, Михаил, у белых служит, в Первом Забайкальском казачьем полку, в Чите, кажись, он стоит.
— В белых, значит, братище мой!.. Вот оно что-о! В библии-то не зря, значит, сказано: «Брат пойдет на брата». Ну, а другие наши: Игнат Козырь, годки мои — Алешка Голобоков, Санька твой?
— Нету Саньки больше. — Сафрон помрачнел, насупился и, помолчав, продолжал изменившимся, глухим голосом: — Сказнили его злодеи-то эти. Всю зиму в тайге скрывался, а на фоминой неделе вздумал домой заявиться, своих повидать. Втроем пришли: Мельников Петро с ним да Игнат Козырь, он-то и подвел всех: добрался до самогону и нализался до бесчувствия. А тут, как назло, карателей целая сотня нагрянула. Саньку с Петром упрятал я надежно, а Козыря и найти не мог. Где его черт носил, никто не знает. Ночью разбудил я Саньку с Петром: бегите, говорю, самое время, пока все спят. И ушли бы, кабы не Козырь, будь он трижды проклятой. Уходить без него не захотел Санька, какой ни на есть, да товарищ, нельзя бросать на погибель. Зашли за ним, а он лежит в кладовке — «ни тяти, ни мамы». Давай отливать его холодной водой, а ночи коротки стали, — пока возились с ним, светать стало. Повели они его, почти что волоком, и кто-то из недругов наших увидел их, атаману сообщил. Атаманом-то теперь у нас Титка Лыков, а ты сам знаешь, что за человек, семеновец ярый к тому же. Ну и вот, только они к перевозу на Ингоду — и белые за ними. Забрали и в тот же день… всех троих… за поскотиной. — Сафрон глухо, с натугой кашлянул, помял рукой горло. — Саньку моего… четырьмя пулями… прошило.