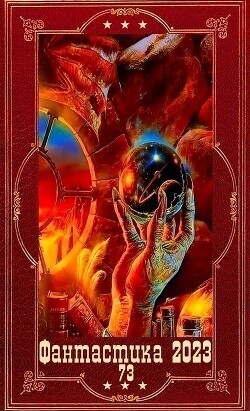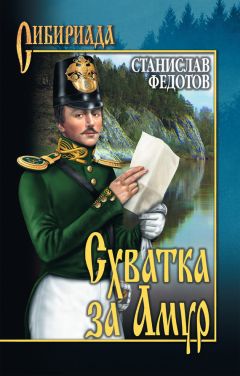Дорога в 1000 ли - Федотов Станислав Петрович
После гибели мужа Григория Татьяна Михайловна стала усердно посещать церковь, благо та была, можно сказать, в двух шагах, свечки ставила, молилась, духом её прониклась и надеялась, что с Гриней своим незабвенным обязательно встретится после смерти. Оттого и Христа усердно поминала.
– Крёстной матушкой быть я согласная, – закончила бабушка, – а кого в крёстные отцы выбираешь?
– Ещё не знаю, может, вы подскажете, – Цзинь умоляюще взглянула на хозяйку.
– А сердечко твоё про кого поминает?
– Про дедушку Кузьму, – почти прошептала Цзинь и залилась краской.
– Годится! – объявила бабушка. – А чего заалела пуще зорьки утрешней?
– Я боюсь…
– Чево-о-о?! Не-е, гляньте на неё, люди добрые: она Кузьму боится! Да добрей казака по всему Амуру не сыщешь! Даже мой Гриня, царство ему небесное, – перекрестилась Татьяна Михайловна, – уж на что ласков был, а и то перед Кузей не мог стать. Не боись, девонька, я за тебя с им перекинусь словечком – он не откажет.
– Только вы, пожалуйста, моим папе с мамой не говорите.
– А они чё, супротив Бога нашего?
– Нет-нет! Просто мама цюаней боится. Думает, что они придут сюда и убьют всех нас из-за меня.
– Никто сюда не придёт! – заявила бабушка Таня. – А заявятся – им так накостыляют, что дорогу домой забудут. Хунхузов били, и цуаням вашим достанется.
Помянув хунхузов, она тут же вспомнила, как привезли на двуколке накрытое чекменём тело её дорогого Гришеньки. Господи, как она не хотела отпускать его в этот поход! Ведь уже отслужил своё, списан по всем статьям, сиди на лавочке, трубку покуривай, домашними делами занимайся… Нет, говорит, я обязан! Ну что поделаешь?! Границу перешла большая банда хунхузов, на-конь скликали всех, кто может в седле сидеть и шашку в руке держать. Как же Григорий Шлык усидит, ежели братальник Кузьма Саяпин уже на коне? Да не один Кузьма, а и Фёдор с им, зять родимый, отец малолеток Ванюшки и Еленки. Арина-то ни слезинки не уронила, за стремя мужа подержалась и отошла, зато Еленка пятигодошная ревмя ревела, как будто беду заране чуяла. А беда-то, вот она, через неделю на двуколке во двор въехала. Как въехала, так сердце и упало, прям под колёса той двуколки. Марьянка, ей четырнадцать годков было, последыш, тятина любимица, проводы в поход на сеновале просидела, слёзы прятала, а тут рухнула на тело отца, как подрезанная, и в беспамятство ушла. Цельный год промолчала, гордивица несусветная, а потом сбежала в Хабаровск. Никого в доме не осталось!
Татьяна Михайловна вздохнула, возвращаясь из воспоминаний, и поймала обеспокоенный участливый взгляд Цзинь:
– Что с вами, бабушка Таня?! Я что-то не то сказала?
– Нет-нет, девонька, – заторопилась старушка. – Не бери в голову, энто я, болтомоха старая, в лагуниху [17] забрела. Токо ягода там горька, ажно зубы сводит.
16
Пашка Черных бузовал [18].
Он терпеть не мог долгого одиночества и, стоило такому случиться, начинал буянить. Пил пиво, вино, китайскую гамырку, затевал драки и частенько оказывался в «холодной». После того как его не призвали по объявленной мобилизации, опять же из-за ног разной длины, которыми его наградила природа, а главное – после убытия Ивана и Ильки в неведомый поход, Павел затосковал и десять дней бузовал без продыху. Приструнить бузуя было некому, потому как отец его погиб в одном бою с Григорием Шлыком, а мать и сестра остались в станице Поярковой – на хозяйстве, которым сын не захотел заниматься ни под каким видом. На пиво и прочие радости жизни Пашка зарабатывал на благовещенской пристани, где подвизался грузчиком. Артельщик грузчиков Финоген пытался на него воздействовать – чтоб хотя бы реже прогуливал, – но Пашка на его уговоры ответил:
– Ты, дядька Финоген, платишь мне сдельно: скоко моя холка выдюжила, – он похлопал себя по шее, – стоко и получил. А куды полученное истрачу – твоё ли то дело?
– Куды тратишь – дело не моё, – согласился Финоген, красный нос которого ясно указывал, куда и он спускает свои кровные, но как артельщик он был сейчас при исполнении, а потому должен быть строг и справедлив. – Однако ж ты который день бузуешь, а пароходы под разгрузкой стоят, хозяева убыток несут.
– А тебе-то чё страдать за их убыток? Али они с тобой прибытком делятся?
– Ты чё, ты чё?! – замахал на Пашку руками Финоген. – Окстись, парень!
– Вот и дай душу отвести.
Утром 27 июня, в среду, он в очередной раз вышел из «холодной». Пошарив в карманах и не найдя там гривенника на пиво, выругался и побрёл по Иркутской куда глаза глядят. Мимо Алексеевской женской гимназии, мимо городской телефонной станции. Свернул на Графскую и, выйдя на Вознесенскую, выпучил глаза, увидев, как в церковь Вознесения Господня заходят Ван Цзинь, дед Кузьма Саяпин и бабка Татьяна Шлык. Ну старики эти – ладно, к Богу направились, видать, по ладану соскучились, а Цзиньке-то узкоглазой чего там спонадобилось?!
И вдруг ударило в голову:
– Чёрт! То ж Ванька наверняка её креститься подбил, обабиться надумал! Вот баламошка, вот дурак!
Пашка плюхнулся на ближайшую лавку у палисадника, уронил тяжёлую башку в руки, и мысли из неё словно рассыпались по траве-мураве, плотным ковром покрывшей землю под ногами. Ах ты, Цзинька, Цзинька… Не-ет, не дурак Ванька, такую красуху отхватил… из-под носа увёл… Слишком долго он, Пашка, нацеливался, ноги своей коротковатой стеснялся… А чего было стесняться? В остатнем-то он многим парням нос утрёт! За что ж его Боженька так пожалел?!
С Богом Пашка был не в ладах. Рассорился он с Исусом Христом. Пашке было тогда девять годков, уж как он молился, весь лоб расшиб, кланяясь, каждому святому перед иконой свечки ставил, а всё для того, чтобы не сбылось увиденное им во сне накануне отъезда отца на ликвидацию банды хунхузов. Уж больно жуткий был сон: в нём батяня умирал, весь залитый кровью. Пашку после того несколько ночей трясучка била, спать не давала. Днём молился, а ночью дрожью исходил, до седьмого пота. И так, покуда не возвернулись казаки из того страшного похода, без Степана Черныха и Григория Шлыка возвернулись, без Парфёна Пичуева и многих других. Смертным воем завыли вдовы и сироты по станицам. Зашёл тогда мальчонка в горницу, встал перед образами в красном углу и спросил напрямки главного Бога:
– Чё ж ты не защитил нашего батяню от пули хунхузовой? Ты же всё можешь и всех любишь! Я же просил тебя, молил, свечки ставил, а ты, наверно, уши заткнул, чтобы мы не мешали…
Говорил Пашка, а может, кричал – он уже не помнил. А Бог скорбно смотрел на него с потемневшей иконы и молчал. Да и что он мог сказать в своё оправдание? Это я, мол, испытание вам послал, а вы его не выдержали? Так это батюшка церковный всегда его слова пересказывал, можа, теперь чтой-то и переврал, не расслышав, а можа, сам придумал…
Пашке показалось, что лик на иконе аж перекосило от гнева, и он плюнул прямо в красный угол:
– А не пошёл бы ты…
Договорить не дала мать. Она влетела в горницу с вальком, которым гладила выстиранное бельё, и огрела им сына поперёк спины:
– А ну, марш отседова, охальник!
И возненавидел с той поры Пашка Черных и Бога, и церковь, и всех святых с их иконами. А когда по прошествии девяти лет войсковая старши́на отказала ему в зачислении в конный полк по причине природной ущербности, затлела в его душе тихая ненависть ко всему казачьему житью-бытью. Она, эта ненависть, оторвала его от родового корня в Поярковой и погнала, как перекати-поле, по зазейской земле вплоть до Благовещенска.
Хоть уже и давненько это было, но вспомнится вдруг – как ножом по сердцу.
А тут ещё Цзинька эта узкоглазая с крещением! И такая баская [19]!..
Пашка ажно застонал, мотая чугунной головой промеж руками.
– Э-э, да это Черных, с утра пьяный, – произнёс возле него молодой девичий голос.