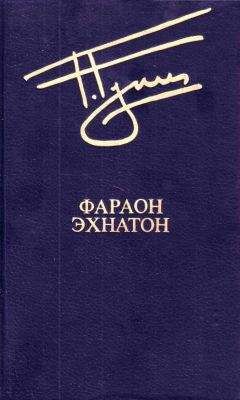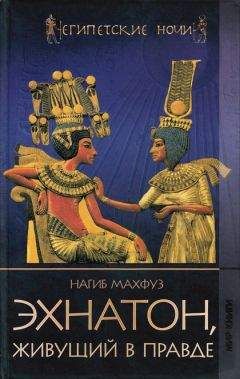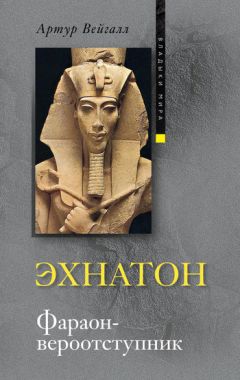Александр Западов - Забытая слава
Мушка среди лба говорила «любовь», под правой щекой объявляла о печали, под левой — о соблюдении чести. Кончик носа, украшенный мушкой, означал отказ поклоннику, на подбородке мушка читалась целой фразой: «люблю, да не вижу». Реестр о мушках, который можно было списать и выучить, раскрывал секреты дамской сигнализации и давал возможность на балу вести тайную беседу, содержания незамысловатого, но для корреспондентов восхитительного.
Хотя по пьесе Оснельда была дочерью князя древнего Киева, она выходила на сцену в платье с фижмами и высокой прическе. Кий и Хорев носили чулки и башмаки с пряжками, то есть были одеты как и зрители, наполнявшие зал. Сумароков не представлял еще себе, что исторические герои должны быть одеты в свойственные их времени наряды, мысль об этом, очень важная, пришла ему позднее. Поэтому Оснельда выглядела придворной красавицей, и Елизавете показалось, что наряд ее беден.
— Подайте мои камни, — сказала императрица.
Две фрейлины побежали в уборную комнату Елизаветы и принесли ларец с драгоценностями.
— Подойди, я тебя уберу, — подозвала она Свистунова.
Елизавета очень любила наряжаться и украшать других.
Она прилепила мушки на миловидное лицо кадета, обвила жемчужной ниткой парик, надела на обнаженную шею юноши бриллиантовое ожерелье и, отступив на шаг, залюбовалась своей работой.
— То хорошо, — сказала она. — Идемте в залу.
Кадеты очень волновались. Сумароков с табакеркой в руке — он пристрастился нюхать табак — суетился вокруг актеров, оглядывая каждого перед выпуском на сцену.
Во время действия он стоял за кулисой, шепча, про себя стихи трагедии и готовясь подсказать текст оробевшему исполнителю. Но кадеты роли выучили назубок и не сбились ни разу.
Разумовский первым поздравил Сумарокова с успехом.
— Лиха беда — начало, Алексей Григорьевич, — ответил довольный Сумароков. — У меня ведь не одна трагедия готова, еще лучше сыграем. Да и комедиям черед подходит.
2Сумароков уже пробовал свое перо в этом виде сочинений, одноактная комедия была написана. Называлась она «Тресотиниус».
Когда автор прочел своим актерам «Тресотиниуса», они очень смеялись и без труда узнали заглавного героя — Василия Кирилловича Тредиаковского. В пьесе высмеивались его стихи и книжка «Разговор об ортографии».
Сумароков был зол на Тредиаковского за его дурные отзывы о «Хореве» и об эпистолах. Стихи выручил второй рецензент — Ломоносов. Он одобрил их к печати, не найдя в эпистолах никаких личностей. «Таковые стихи, — рассудил Ломоносов, — касающиеся до исправления словесных наук, невзирая на такие сатиричества, у всех политических народов позволяются». Мнение это взяло верх, и «Две эпистолы» вышли в свет.
Тредиаковский был очень осторожен, боялся начальства и сатиру отвергал. Сумароков становился все более резким, язвительность его возрастала. А кроме того, он знал, что пишет стихи лучше Тредиаковского, и не видел, почему нельзя смеяться над тем, что смешно.
При этом Сумароков совсем не старался соблюдать вежливость. Имя «Тресотиниус», сходное по первому слогу с фамилией Тредиаковского, он образовал на латинский лад, с окончанием «иниус», от французских слов «très sot» — очень глупый. И подписал, что комедия начата 12-го, а окончена 13 января 1750 года, — дескать, одного дня довольно, чтобы вышутить педанта Тресотиниуса, Тредиаковского тож.
Комедия была несложной. Господин Оронт желал выдать дочь Кларису за Тресотиниуса, о чем составил договор с крупной неустойкой. На Кларисе хотел жениться и офицер-самохвал Брамарбас. Но подьячий, сговоренный возлюбленным Кларисы Дорантом, вписывает в брачный договор его имя, и остальным женихам натягивается нос.
Кроме Тресотиниуса в комедии были выведены еще два мнимых ученых — педанты Бобембиус и Ксаксоксимениус. В их грамматических спорах Сумароков пародировал рассуждения Тредиаковского о русской орфографии, о букве «т», по-славянски называвшейся «твердо».
«Я содержу, — говорил Тресотиниус, — что твердо об одной ноге правильнее, ибо у греков, от которых мы литеры получили, оно об одной ноге, и треножное твердо есть урод, не имущий с греческим твердом ни малого свойства».
Тресотиниус «знает по-арапски, по-сирски, по-халдейски, да диво, не знает ли он еще и по-китайски, и на всех этих языках стихи пишет, как и на русском». Сумароков намекал на французские стихи Тредиаковского.
В сцену объяснения Тресотиниуса с Кларисой была вставлена злая пародия на поэтическую манеру и слог Тредиаковского:
«Тресотиниус. Прекрасная красота, приятная приятность, попремногу кланяюсь вам.
Клариса. И я вам попремногу откланиваюсь, преученое ученье.
Тресотиниус (вынув песню из кармана). Эта бумажка яснее вам скажет, какую язву в сердце моем приятство ваше, то есть красота ваша, мне учинило, то есть сделало.
Клариса. Я верю вам, сударь.
Тресотиниус. Однако ж, не поскучите ль послушать, а песенка сочинена очюнь, очюнь, подлинно говорю, что очюнь хорошо; да еще и хореическими, сударыня, стопами.
Клариса. Очень, сударь, хорошо, я вам верю, что эта песня хороша.
Тресотиниус. Она сочинена на голос «О места, места драгие», изволите послушать, да послушайте ж, сударыня.
Клариса (особливо). Боже милосердный!
Тресотиниус (читает):
Красоту на вашу смотря, распалился я, ей-ей!
Изволь меня избавить ты от страсти тем моей!
Бровь твоя меня пронзила, голос кровь зажег.
Мучишь ты меня, Климена, и стрелою сшибла с ног…
Или ты меня, спесиха слатенька, любезный свет,
Завсегда так презираешь, о! увы моих злых бед!
Хоть, Климена, исподтиха покажи мне склонный вид!
И не делай больше сердцу преобидных ты обид».
Сумароков изучил свою мишень и бил без промаха. Он смешно и верно передразнил хореические стихи Тредиаковского, подчеркнул неуклюжесть его любовной лирики и старомодные выражения. Теперь стал готовиться к мести Тредиаковский.
Вторая комедия Сумарокова называлась «Пустая ссора». Он сочинил ее в духе народных представлений. Смешны были глупый дворянский недоросль Фатюй и щеголь Дюлиж, помешанный на подражании французам. Сумароков удачно схватил манеру модного светского разговора, пересыпанного французскими словами:
«Деламида. Я этой пансе не имею, чтоб я и впрямь в ваших глазах эмабль была.
Дюлиж. Трезэмабль, сударыня, вы как день в моих глазах.
Деламида. И я вас очень эстимую, да для того-то я за вас и нейду; когда б вы и многие калитэ имели, мне б вас больше эстимовать было уж нельзя.
Дюлиж. А для чего, разве бы вы любить меня не стали?
Деламида. Дворянской дочери любить мужа, ха! ха! ха! Это посадской бабе прилично!
Дюлиж. Против этого спорить нельзя, однако, ежели б вы меня из адоратера сделали своим амантом, то б это было пардонабельно.
Деламида. Пардонабельно любить мужа! ха! ха! ха! Вы ли, полно, что говорите, я бы не чаяла, чтоб вы так не резонабельны были…»
Дворянство в России все больше увлекалось Парижем. Дюлиж гневается, когда Фатюй именует его русским человеком, и грозит шпагой за такое оскорбление. Сумароков в полный голос высказал свое презрение дворянам, забывающим об отечестве, и обнажил на сцене их духовное убожество.
Кадеты, весело разыгрывали эти комичные сцены, и придворные Елизаветы немало потешались на спектаклях, однако продолжали разговаривать на ломаном русско-французском диалекте.
Двадцатью годами позже Николай Иванович Новиков в журнале «Живописец» снова будет толковать о модном щегольском наречии, осуждая дворян, пренебрегающих русским языком. За эти годы французомания только усилилась, и самая острая сатира была бессильна поколебать дворянские нравы.
3Кадеты играли во дворце «Гамлета».
Спектакли ставились в приемной зале — аудиенц-камере. Раздвижной занавес отделял зрителей от сцены, занимавшей примерно четверть большой продолговатой комнаты. Помоста не воздвигалось — по утрам в зале происходили придворные церемонии.
Пятеро кадет по команде Сумарокова натягивали задник — рисованный холст, изображавший колонны. Это был дворец. Впрочем, он мог быть и площадью и тюрьмой, этот «palais á volonté» — дворец какой угодно. Ремарки драматургов не определяли обстановки действия, она значения не имела. Зрители слушали речи героев, из них узнавая, что и где происходит на сцене, пустой и просторной.
В зале было тесно. Сотни восковых свечей излучали свет и тепло. Роброны дам занимали много места. Потесниться не удавалось — китовый ус, заложенный в круглые юбки, сильно пружинил. Кавалеры склоняли корпус и тянулись, чтобы шепнуть какой-нибудь пустяк в украшенное бриллиантом ушко. Однако все они знали цену мнимой неприступности китовой обороны и не страшились ее препятствия.