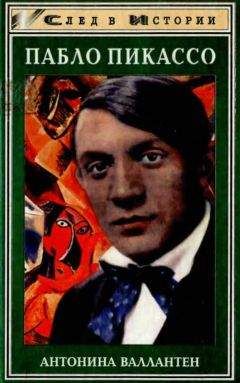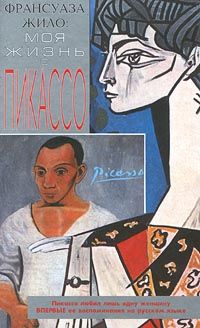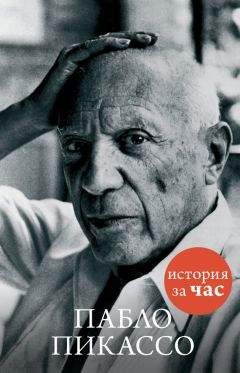Франсиско Умбраль - Авиньонские барышни
Каролина Отеро, легко для меня доступная, тут же заменила мне в интимной жизни Сасэ Каравагио и козу Пенелопу. Каролина делала мне минет и еще много такого, чего никто никогда не делал раньше, даже искусные проститутки с Санта-Клара[95].
Говорили, что Прекрасная Отеро, а теперь просто Каролина, ложилась в постель и с женщинами, я не интересовался этим, мне было все равно. Бесшумной тенью, отражаясь в зеркалах, она скользила по гостиным, столовым и дворикам, французская королева с неприбранными волосами, униженная и обесчещенная. Почти гильотинированная.
На закате из глубины сада доносились галисийские песни, она пела тихим голосом, сдержанно, но с большим чувством.
Кузен Хакобо приходил к нам все реже и реже, поскольку тетушка Альгадефина не выказывала к нему никакого интереса, но, когда он умер в своей далекой провинции, нам, по его завещанию, досталось огромное наследство в доходных домах, бумагах и монетах, что спасло семью от полного краха. Без сомнения, он сделал это ради тетушки Альгадефины и ее здоровья, но пользовались его богатством мы все и были очень ему благодарны. А я решил, что большая семья в принципе не может разориться, но я, конечно, не думал тогда о революции, и это было моей ошибкой. Ни деньги Кристо Переса, Сандесеса, ни деньги кузена Хакобо не защитят нас от революции, которая разорит и разрушит очень много семей, в том числе и нашу.
Революция не заставила себя долго ждать. Вслед за провозглашением Республики начались погромы: республиканцы жгли церкви и выгоняли монашек из монастырей. Церкви сжигает Бог, как сказал Бергамин, но кто бы их ни жег — Бог или Дьявол, — а надо было спасать Марию Эухению. Мы выехали ночью в семейном фиакре, дон Мартин с кучером на козлах, мама, тетушка Альгадефина и я между ними в глубине коляски.
Военные, анархисты, штатские с ружьями останавливали машины. Республика на наших глазах превращалась в Революцию. Дон Мартин всем кричал:
— Я республиканец! Я сторонник Асаньи! Я либерал! Я атеист!
И его пропускали.
Когда мы подъехали к бернардинкам, монастырь уже лизали большие языки пламени. Мария Эухения вышла к нам в мирской одежде, снова с непокрытой головой, с прической, как у Клео де Мерод, как она всегда носила, и я опять увидел знакомый овал лица, словно нарисованный Вермеером.
По приезде в наш дом Мария Эухения сразу же привела себя в порядок, но в доме не было мужчин, способных оценить ее красоту, исключая меня, слишком юного, маменькиного сынка, и дона Мартина, слишком старого. Дедушка Кайо, естественно, был не в счет. Монастыри горели, и Мария Эухения вновь стала прежней, только более зрелой, с усталым взглядом и мудрой улыбкой.
— Привет, Франсесильо, ты уже совсем мужчина.
— Привет, Мария Эухения.
Приоткрытая дверь, замочная скважина, темный угол и другие никому, кроме меня, неведомые наблюдательные пункты — я часто подсматривал любовь Марии Эухении и Каролины Отеро: два прекрасных обнаженных тела, ангельская красота содомского греха. Какое великолепное изобилие для Пикассо: груди, ягодицы, ноги, лица — он бы не отказался от такой картины.
После такого зрелища я, естественно, мастурбировал, потому что коза Пенелопа на этом фоне никуда не годилась.
В доме быстро узнали про любовь Марии Эухении, монахини-бериардинки, и Прекрасной Отеро, парижской музы русских принцев. Но никто ничего не говорил и никак это не комментировал. Сестры Каравагио ничего не знали. Удивительно, но Каролина Отеро время от времени продолжала приходить в мою комнату по ночам, и мы пылко занимались любовью, ликвидируя пробелы в моих любовных познаниях. Я стал постигать тогда, что сексуальность женщины многообразна, она словно исследует свое тело и бывает счастлива, только если перепробует все, что возможно. Мужчина всего лишь сноска на пансексуальной странице женщины. Открывшееся мне знание научило меня никогда не ставить себя выше женщины, воспринимать тело каждой женщины как незаслуженный подарок и быть благодарным этому случайному, недолгому, пленительному счастью.
Тетушка Альгадефина переживала период целомудрия, чахотки и меланхолии, поэтому она достала письма и стихи Рубена, — пакет уже посинел и позеленел от времени, которое не всегда проявляет себя на бумаге желтым цветом, — неторопливо развязала ленточки и принялась читать стихи и прозу, не столько, возможно, из верности давно далекому любовнику, сколько из желания воскресить ушедшее время. Мы знали о Рубене по журналам и газетам. Воспоминание о любви всегда лучше, чем сама любовь, думал я. Тетушка Альгадефина словно перенеслась в ту давнюю идиллию с вдохновенным трансцендентным индейцем и снова наслаждалась ею. Она растянулась в шезлонге под магнолией и читала мне стихи Рубена:
С чем на земле архитектуру
твоей фигуры
сравнить? Со снежно-золотой
китайской башенкой витой?
Я влюбился в тетушку Альгадефину из-за Рубена или, наоборот, влюбился в Рубена из-за тетушки Альгадефины. Луис Гонзага был похоронен в общей могиле для негодяев, хотя семья его хотела достойных похорон и добивалась их. Он был черной страницей в нашей жизни. Сасэ Каравагио, поскольку я медлил и ничего не предпринимал, вернулась к мистику-горбуну, курильщику трубки, Мария Луиса обслуживала любого на улице Хакометресо, Каролина Отеро ласкала Марию Эухению, кузен Хакобо умирал в своей провинции, оставляя нас наследниками, старые письма Рубена благоухали XIX веком, а я становился совсем взрослым, не сознавая этого.
Хосе Санхурхо-и-СаканельГенерал Санхурхо[96] поднимает восстание против Республики и демократии. В Испании так всегда — идут против власти, если она не благосклонна к Церкви. 1932. Восстание подавлено, Санхурхо бежит, но, уже на границе с Португалией понимая, что унижает себя бегством, останавливается и сдается гражданским гвардейцам. Республика приговаривает его к смертной казни, затем милует. Дон Мануэль Асанья, начальник тетушки Альгадефины, занят реформами — аграрной и социальной, но только не революцией. А она наступает, повсюду стачки, и наконец разыгрывается трагедия в Касас-Вьехас[97] — гибнут крестьяне. Правые приписывают Асанье подлую фразу: «Этим в Касас-Вьехас — по четыре выстрела в живот». А тетушка Альгадефина кричит нам дома:
— Это ложь! Это ложь! Я была там, я слышала, как он отдавал приказы по телефону, и он ничего такого не говорил. Этого не было!
Первый раз в жизни я видел тетушку Альгадефину в ярости, и она внушала мне страх, потому что она превратилась в совершенно другую женщину, которая не была ею, которую я не знал и которую, возможно, она умышленно от меня скрывала. Асанья, может, ничего такого и не говорил, но он закрыл не менее ста газет. Программа Асаньи была рассчитана на страну европейскую, но реализовывал он ее в стране, по существу, африканской. Это было его ошибкой. Масиа[98] становится президентом Каталонии. Дон Мартин Мартинес, прадед, посещает два раза в неделю, по средам и пятницам, Марию Луису, и они занимаются любовью в прохладной неубранной постели на Хакометресо.
Прадед таким образом поддерживал Марию Луису материально, и оба выигрывали: для него потеря таких сумм была нечувствительна, а ей это позволяло продолжать работать в «Чикоте», на ее последнем рабочем месте.
Наверняка дон Мартин, с высоты своего возраста, всю жизнь смотрел на Марию Луису, подругу своих внучек, как на существо невероятно соблазнительное, вожделенное, самое желаемое в мире, но недоступное, и вот теперь, когда мир вместе с ними впал в безрассудство, Мария Луиса сама свалилась ему на голову, став последней любовью в его жизни. В доме был бы скандал, стань это известным, но я был благодарен нашей подруге, проститутке, за то, что она скрасила старость моего прадеда своей любовью, дочерней, нежной, понимающей, сладкой, такой любовью женщина любит очень старого мужчину и чувствует себя его матерью и дочерью одновременно, что и испытывала Мария Луиса к дону Мартину, хоть и не сумела бы этого объяснить.
У Марии Луисы уже не горели огнем волосы, апельсиновые пряди поседели. Когда она стала краситься, чтобы нравиться дону Мартину, прадед сказал ей:
— Оставь это, Мария Луиса, все равно я вижу тебя не такой, какая ты сейчас, а такой, какая ты была давно, когда приходила к нам домой девчонкой.
— Но так я выгляжу старой, дон Мартин.
— Нет, дорогая. Ты нравишься мне, как есть, и я люблю тебя еще больше такую — познавшую много мужчин, потратившую на них много ночей, и не надо надевать для меня маску, ведь я тебя знаю с твоих детских лет.
Я повидал немало любовных пар в своей жизни, я сам любил и был любим, но никогда я не видел ничего прекрасней, чем любовь прадеда дона Мартина Мартинеса и Марии Луисы. Это была любовь, какой она должна быть, где все переплетено, скреплено, наполнено великодушием, долгой дружбой, одиночеством, желанием, крушениями и страхом. Дон Мартин боялся страха, боялся импотенции, боялся смерти. Мария Луиса боялась улицы и благотворительных больниц для проституток. И эти два страха слились в прекрасную неравную пару, два раза в неделю предававшуюся страсти, самой необыкновенной из всех страстей, о которых упоминается в семейных хрониках и которыми питается этот правдивый роман.