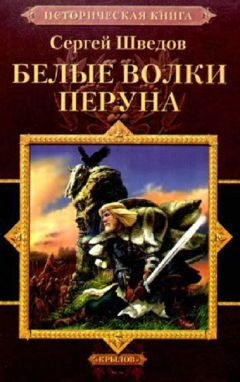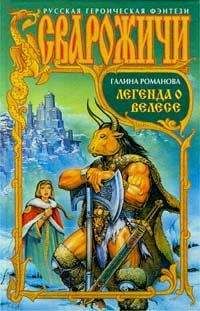Шарль-Альбер Коста-Де-Борегар - Роман роялиста времен революции :
Если его не поняли, то, по крайней мѣрѣ, его выслушали съ снисхожденіемъ, которое успокоило его вполнѣ на счетъ участи монархіи. И онъ продолжалъ свой путь, всецѣло отдавшись плѣнительному видѣнію, которое въ тотъ день являлось Мунье:.. "Статуя Людовика XVI возвышалась среди тлѣющихъ развалинъ Бастиліи и прославляла короля, возстановителя евободы Франціи…".
Однако, какая галлюцинація! Развѣ цареубійство не витало уже надъ этими улицами, надъ этими площадями, надъ этими перекрестками, по которымъ двигалось это шествіе? Отчего же эта толпа, которая душила депутатовъ своими нѣжностяки, отчего была она вооружена? Начиная съ шщали, до желѣзной палви, все пригодилось этимъ мужчинамъ, женщинамъ, монахамъ, которые ревѣли: "Да здравствуетъ нація"!.. Вдругъ раздался ружейный выстрѣлъ по ту сторону Сены. Пуля попала въ женщину, шедшую около дверцы кареты короля, ѣхавшей по площади Людовика XV. Наконецъ, добралисъ до Ратуши. Боролю пришлось подниматься по ступенькамъ, мѣстами краснымъ отъ крови, подъ стальной сводъ торжествующаго массонства.
Вся эта толпа и депутаты направилась въ Notre Dame чествовать эту побѣду, а несчастный Людовикъ XVI, измученный своею ролью "Ессе homo" ("Ce человѣкъ"), сътрехцвѣтною кокардою на груди, подъѣзжалъ къ Версалю.
II.Прокатилась первая волна… Казалось, обрѣтенъ былъ миръ. Но на завтра волна принесла тѣла Фулона и Бертье. При своемъ отливѣ, она унесла съ собой, для нѣкоторыхъ, первую иллюзію.
22 іюля оставило неизгладимый слѣдъ въ жизни Анри. Онъ разговаривалъ съ Лалли, своимъ старымъ товарищемъ по училищу Harcourt, когда въ Версаль прилетѣлъ сынъ несчастнаго Бертье, умоляя собраніе спасти его отца отъ смерти, уже плѣнника народа. "Запыхавшись, растерянный, несчастный обнималъ колѣни Лалли, восклицая:- вы, по крайней мѣрѣ, сжальтесь надо мною, вы, который знаете, что значитъ видѣть убійство своего отца"…
Почти одновременно пришло извѣстіе о совершившемся уже убійствѣ, со всѣми ужасными его подробностями… отрубленная голова… вырванное сердце… на куски изорванное мясо…
Мирабо былъ циниченъ. Эти преступленія были для него лишь "гнойными прыщами свободы"… Барнавъ же только анализировалъ пролитую кровь. Вирье былъ возмущенъ и съ негодованіемъ протестовалъ.
"У Франціи есть законы, — восклицалъ онъ нѣсколько дней позже, когда Собраніе требовало введенія исключительнаго суда, весьма выгоднаго для палачей и въ ущербъ жертвамъ. — У Франціи есть законы, судьи, исполнительная сила… Соединить все это въ однихъ рукахъ, значитъ, возстановить деспотизмъ… Первая обязанность, которую на меня возложили мои довѣрители, это — упроченіе свободы… Деспотизмъ толпы — самый пагубный изъ всѣхъ деспотизмовъ…" [29].
Анри вдругъ, разомъ, точно понялъ, что такое будетъ революція. Его прямота овладѣла имъ. Вчерашній простякъ превратился въ пророка будущаго. Онъ резюмировалъ его однимъ словомъ.
Но и для него, какъ для многихъ честныхъ людей этого Собранія, которые считали тотъ день потеряннымъ, когда не было разрушено что нибудь, свѣтъ могъ быть только перемежающимся. Извѣстно безумное засѣданіе 4-го августа, которое самъ Мирабо называлъ "оргіею". Вездѣ подобало быть оргіи: на улицахъ оргія грубаго тупоумія, въ другихъ мѣстахъ оргія рыцарскаго тупоумія.
III.Этотъ печальный звонъ старыхъ порядковъ нигдѣ не раздавался такимъ усиленнымъ перезвономъ, какъ у подошвы Альпъ. Въ Дофине горѣло семдесятъ замковъ. Мѣстные крестьяне воображали, что этимъ они выражаютъ свое сочувствіе всѣмъ рыцарскимъ безразсудствамъ, совершеннымъ въ ихъ пользу 4 августа.
Ради этого Пюпетьеру пришлось поплатиться за всѣ жертвы, которыя владѣлецъ его принесъ отъ добраго сердца своимъ вассаламъ. Для защиты отъ шаекъ поджигателей и грабителей Анри оставилъ въ своемъ замкѣ только управлдющаго Журне съ женою. Журне замѣстилъ собою Перрэня и, подобно ему, далъ бы себя разрубить на части, защищая входъ къ его господамъ.
Однажды, вечеромъ, въ окрестностяхъ Пюпетьера появилась одна изъ такихъ гнусныхъ шаекъ, и скоро эта обезумѣвшая толпа "Тысячеголовый Робеспьеръ", какъ называлъ ее Бальзакъ, направилась къ замку по узкому и каменистому ложу ручья.
"Среди гвалта и крика слышались, — разсказываетъ m-lle Вирье, — жалобы и стоны одного несчастнаго священника, стараго друга семейства Вирье, котораго тащили на штурмъ замка. Казалось весьма заманчивымъ, чтобы во время нападенія на замокъ священникъ сказалъ рѣчь о правахъ народа".
И вотъ толпа достигла уже стѣнъ ограды. Эта стѣна не представляла собой иной защиты, кромѣ головъ съ раскрытыми пастями старыхъ водосточныхъ трубъ, которыя вѣками изрыгали грязную воду, скопившуюся за стѣной. Что касается оружія, то все оно заключалось въ нѣсколькихъ средневѣковыхъ мечахъ, которые валялись въ башнѣ подъ кучей заржавленныхъ наручей. Правда, у Журне было еще ружье и охотничій ножъ. Почемъ знать, можетъ быть онъ съ удовольствіемъ бы употребилъ ихъ въ дѣло! Но несчастный, потрясенный послѣдними событіями, лежалъ въ параличѣ.
Жена его, такая же храбрая, какъ и онъ, прибѣжала на первый шумъ. Она прошла черезъ маленькій дворъ, отдѣлявшій замокъ отъ стѣны воротами. Черезъ рѣшетчатую калитву она спросила, что нужно. Въ ту же минуту къ лицу священника приставили заряженный пистолетъ… "Говори, чтобы открыли или я тебя убью!", крикнулъ одинъ изъ злодѣевъ. Несчастный священникъ упалъ безъ чувствъ. Не отвечая на вопросъ осаждаемыхъ, вся толпа навалилась на дверь. Дерево выдерживаетъ. Но вотъ изъ деревни силою тащутъ кузнеца. Ему велятъ открыть замокъ. Онъ его открываетъ. Но едва отворилась дверь, какъ толпа очутилась лицомъ съ лицу съ г-жей Журне. Отважная женщина заграждаетъ входъ. На нее сыпятся удары, ругань. Ее собираются столкнуть въ ровъ съ водою. "Ахъ! я лучше сама въ него брошусь, — говоритъ героиня-сторожиха, — если я не въ силахъ спасти замка!"
"И вотъ она, — говоритъ m-lle Вирье, — взлѣзаетъ на стѣну оранжереи и собирается броситься въ воду, увидѣвъ, что весь этотъ народъ вторгается къ намъ". По счастью ее удерживаетъ священникъ, пришедшій въ себя.
Но во время этой сцены дворъ взятъ, часовня осквернена, Распятіе сорвано [30], двери въ архивы сломаны, въ погреба тоже.
И началось пьянство, кто кого перепъетъ, — было выпито и съѣдено все, что только можно было выпить и съѣсть. Затѣмъ все было свалено въ кучу: картины, книги, пергаменты, документы, граматы, разныя семейныя бумаги. Изъ всего этого былъ разведенъ костеръ, вокругъ котораго разбойники плясали до тѣхъ поръ, покуда, мертвецки пьяные, не свалились въ пепелъ, изрыгая въ послѣдній разъ: "Да здравствуетъ свобода!". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Благодаря этой вакханаліи, замокъ не подвергся огню. Но на другой день несчастный священникъ умеръ, а кузнецъ сошелъ съума. Въ припадкѣ безумія, ему все казалось, что онъ у воротъ Пюпетьера и онъ всячески отбивался отъ тѣхъ, кто его туда притащилъ!.. "Нѣтъ, — кричалъ онъ, — это не я… это они… вотъ они…" и онъ бросался на колѣни, прося прощенія у своихъ господъ, упреки которыхъ въ неблагодарности ему слышались до послѣдняго вздоха.
Вирье былъ правъ. Самый отвратительный деспотизмъ — это деспотизмъ толпы.
IV.Съ тѣхъ поръ какъ совершилось сліяніе сословій, m-me де-Роганъ съ возраставшимъ негодованіемъ слѣдила за вторженіемъ этого новаго деспотизма. Съ удовольствіемъ сказала бы она, какъ сказала одна важная дама депутату изъ дворянъ avant la lettre [31]: "Послѣ перехода въ третье сословіе я уже не браню свою прислугу".
Послѣ страшнаго разочарованія 14 іюля стало еще хуже. Ей не только была отвратительна эта торжествующая чернь, но она съ удовольствіемъ бы завесила окно своей кареты, чтобы ее даже вовсе не видѣть. Дома, гдѣ все обращено было къ солнцу, кажутся негодными для жилья, когда подуетъ вѣтеръ. Франція въ настоящее время была для m-me де-Роганъ такимъ домомъ. Ея единственною мыслью было его покинуть.
Уже многіе другіе, близко стоявшіе къ престолу, выѣхали въ Бельгію и Германію. Принцъ Конде, графъ д'Артуа, m-me де-Полиньякъ подали примѣръ къ бѣгству, которое должно было оказаться столь гибельнымъ. На взглядъ герцогини де-Роганъ они одни были правы. Францію слѣдовало наказать, а слабость короля, безобразія въ провинціяхъ, повсемѣстныя возмущенія настоятельно требовали иностраннаго вмѣшательства. Единственнымъ вѣрнымъ средствомъ для спасенія монархіи считалась необходимость вызвать это вмѣшательство.
Однажды, утромъ, въ августѣ, герцогиня де-Роганъ явилась къ m-me Вирье и объявила тономъ, въ которомъ слышалась и прежняя нѣжность, и суровость настоящаго:
— Надо уѣзжать, моя милая… Положимъ, не надолго… Все это не можетъ долго длиться… Ахъ! если бы г. Вирье (такъ она звала теперь Анри) понималъ свой долгъ!..
M-me де-Роганъ попадала подъ вліяніе своихъ идей, какъ и своихъ страстей. Анри долженъ былъ понимать свой долгъ съ ея точки зрѣнія. Анри долженъ былъ думать какъ она, что честь перебралась по ту сторону границы и что всякій порядочный человѣкъ долженъ былъ послѣдовать за ней туда.