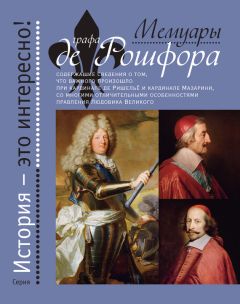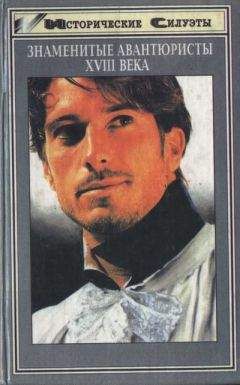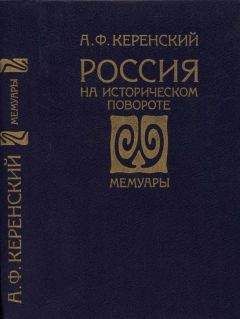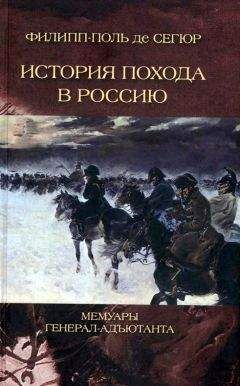Гасьен Куртиль де Сандра - Мемуары M. L. C. D. R.
Если я и остановился подробнее на происхождении и карьере господина канцлера и его сына маркиза де Лувуа, то отнюдь не без пользы, как можно было бы подумать. Чтобы впоследствии рассказывать о многих великих событиях, которые происходили во время их пребывания у власти, нужно дать представление о властвующих персонах и продемонстрировать, что это были люди, искушенные в политике и в делах самого щекотливого свойства.
Возвращаясь же к тому, что касается непосредственно меня, напомню, что я отказался вести переговоры в Брюсселе и на меня поэтому косо смотрели, а Королева и министр столь дурно со мной обращались, что я решил покинуть двор. Уволив господина де Нуайе, осмелившегося выступить в пользу Королевы, Король не поступил столь же строго ни с кардиналом Мазарини, ни с Шавиньи, который действовал в интересах последнего. Разумеется, после этого оба они взялись за дело более искусно и, вместо того чтобы настаивать на передаче регентства Королеве, предложили Королю, покуда он еще в силах, устроить все так, как он хотел бы, чтобы обстояло после его смерти: разве его не тревожит малолетство детей? По крайней мере, умирая, он утешится тем, что их судьба устроена, а если не проявит предусмотрительности, то обречет их разным ее превратностям. Король нашел этот совет разумным, но еще прежде, чем решил ему последовать, встретил непреодолимые трудности. Он размышлял лишь о том, доверить опеку над своими детьми Королеве или брату герцогу Орлеанскому, и поскольку его считал смутьяном, а ее — приверженкой Испании, остановился на компромиссном варианте: разделить регентство между ними{112} в надежде, что, будучи ответственными друг перед другом, они станут выполнять свои обязанности лучше. Это было подобно тому, как государство наслаждается миром, наблюдая, как соседи грызутся между собою; оба оказались недовольны решением Короля и добивались, чтобы он изменил свою последнюю волю. Все придворные, глядя на это, не могли сказать, кто одержит верх и кто приобретет влияние на Королеву, коль скоро она станет правительницей. Королева же была умна и выказывала полное довольство своим положением, что каждый день прибавляло ей сторонников. Кардинал Мазарини использовал любую возможность, чтобы склонить чашу весов на свою сторону и убедить ее, что она не обойдется без его услуг; в последние дни жизни Короля он еще пытался подвигнуть его на некоторые полезные для себя шаги, вновь убеждая его, что мать руководствуется естественными чувствами, которые всегда — на стороне ее детей, а не родственников, хотя бы и самых близких, как герцог Орлеанский, — а как раз тому-то, столько раз восстававшему против брата, ничего не стоит поднять оружие против ребенка; и если даже в благополучное для страны время многие дворяне-де выступали на его стороне, — что же будет, если он получит так много власти теперь? Но Короля не тронули эти слова; он ответил, что в своем завещании распорядился обо всем надлежащим образом — и умер, так ничего и не изменив{113}.
Я настолько привык ко двору, что мне было трудно его оставить, какие бы причины меня к тому ни вынуждали. Я решил попытать счастья у герцога де Ришельё{114}, которому мой господин завещал свои титул и герб. Некоторые утверждали, что он был сыном кардинала, прижитым от герцогини д’Эгийон, — но его ограниченность, каковая не могла быть присуща сыну столь великого человека, являлась лучшим доказательством того, что это — лишь пустые слова. Как бы то ни было, поняв, что он, скорее, влачит, нежели гордо несет доставшееся ему имя, я простился с ним без объяснения причин, крайне огорченный необходимостью покинуть место, единственно способное пленить сердце порядочного человека. Моим желанием было отправиться на войну, которая пылала на наших границах, ибо, хоть и потеряв много времени, я все еще был крепок и силен, — одним словом, пока еще мог оказаться на что-то способным. Это побудило меня обратиться к господину Ле Телье, коего я довольно хорошо знал, и мог надеяться, что моя просьба будет удовлетворена. Но, будучи превосходным политиком, он доложил об этом господину кардиналу, и тот запретил давать мне какое бы то ни было назначение. Я скоро догадался, что последовал некий приказ, ибо господин Ле Телье больше не говорил со мной, как прежде, и, вместо того чтобы подтвердить, что мое ходатайство удовлетворено, как он делал это ранее, передал, что был бы рад оказать мне услугу. Этим выражением, как я понял, он обычно пользовался, когда не хотел ничего делать. Пока я досадовал, что он так долго водит меня за нос, господин де Ла Шатр, увидев, как я в гневе и негодовании покидаю кабинет, предложил, если мне это по нраву, найти для меня другого хозяина, способного утешить за утрату прежнего. Я ответил, что еще как хотел бы этого — лишь бы мой новый господин не был герцогом Орлеанским, — и он сразу назвал имя герцога де Бофора; я ответил, что, разумеется, всегда относился к герцогу с почтением, — но ведь он был противником покойного господина кардинала и вряд ли станет доверять мне, а я, в свою очередь, не смогу служить ему без задних мыслей.
Он спросил, хорошо ли я подумал, прежде чем отказаться, и могу ли, проведя столько времени при дворе и вдоволь насмотревшись на тамошние дурные обычаи, не знать, что выгода смиряет чувства; что, пока господин кардинал Ришельё был жив, я поступал хорошо, не заводя никаких друзей из числа противостоявших ему особ, но теперь, оскорбленный первым министром, должен разделять интересы и водить дружбу с теми, кто питает к нему неприязнь, а в этом случае уж кому и служить, как не господину де Бофору, которого Мазарини лишил расположения Королевы-матери, — это человек решительный и сильный, не жалеющий ничего для своих друзей и приближенных и, наконец, по достоинству оценивающий верность, — и я не разочаруюсь, отдавшись под его покровительство. Господин де Ла Шатр добавил, что, если я захочу, он замолвит за меня слово перед герцогом, — а когда тот узнает, что я тоже ненавижу Мазарини, то проникнется ко мне куда большим доверием, нежели к кому-нибудь другому.
Опасения, что придется покинуть двор, и желание отомстить за обхождение министра привели к тому, что я принял это предложение, согласившись с доводами господина де Ла Шатра. Он поговорил обо мне с герцогом де Бофором; тот ответил, что будет рад принять меня на службу, и наказал явиться в Анэ{115}, куда и сам должен был приехать. Я выехал из Парижа в сопровождении друга, с которым был на короткой ноге и чей дом находился как раз по пути. Мы, как всегда, послали слуг вперед, а сами последовали за ними по дороге Королевы, через Булонский лес до Сен-Клу{116}. Когда мы проезжали мимо дома маршала де Бассомпьера, где сейчас находится женский монастырь{117}, в дворянина, который был со мной, вдруг швырнули камень. Обернувшись посмотреть, кто это сделал, мой друг увидел на террасе вышеупомянутого дома каких-то людей; они нарочно опустили головы, и он подумал, что это женщины.
— Черт побери! — воскликнул он. — Над нами насмехаются!
Едва он это произнес, те люди поднялись и в нас снова полетели камни; тогда мы наконец убедились, что напрасно приняли их за женщин, — то были мужчины, и они больше не прятались, а осыпали нас насмешливыми ругательствами и градом камней.
Мой друг выхватил пистолет и, когда брошенный булыжник угодил ему по руке, выстрелил, но промахнулся. Тогда он выхватил другой пистолет, но тут местные жители крикнули нам, что нападавшие — люди герцога Орлеанского, отдыхавшего здесь со своей свитой. Слишком поздно мы узнали об этом — оставалось лишь дать лошадям шпоры и помчаться отсюда прочь, нисколько не сомневаясь, что нас будут преследовать. Не достигнув и вершины холма Милосердных{118}, мы заметили пятерых или шестерых всадников, которые гнались за нами во весь опор. Наши лошади изнемогали, но мы шпорили их изо всех сил, не позволяя перевести дыхание, — в таком положении лишь они были нашим спасением. Однако наши недруги, казалось, имели крылья — нас настигли, когда мы еще не успели доскакать до Булонского леса. Поняв, что иного средства спастись нет, мы повернулись к ним лицом и мой друг, которому храбрости было не занимать, уже прицелился, чтобы сделать свой последний выстрел, — как вдруг один из преследователей признал в нем приятеля и крикнул, что предлагает мир. После этих слов он бросился обнимать нас, а остальные спрятали пистолеты; переведя дух, мы сказали: будь нам известно, что это герцог Орлеанский, мы, конечно, не поступили бы так дерзко. Они отплатили той же монетой, ответив, что если бы сразу узнали нас, то повели бы себя по-другому. Впрочем, в этом-то я сомневаюсь: принц, которому доставляла удовольствие низменная забава срывать с прохожих плащи на Новом мосту, как это делал герцог Орлеанский{119}, вряд ли согласился бы остановиться, как бы его о том ни просили.