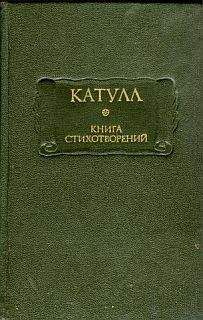Луи Арагон - Страстная неделя
Кстати, о моделях… если бы кому-то не пришла в голову дурацкая мысль отправить в Бетюн полк Робера Дьедонне, он мог бы оказаться здесь, в этом самом кафе, дверь которого приоткрыл Теодор… в этом кафе или еще в каком-нибудь, куда с января повадился ходить Жерико со своими приятелями мушкетерами, возможно, тогда бы именно Робер подвергся оскорблениям… или, может быть, поднялся бы из-за стола…
Кафе, где плавают клубы дыма, полно народу, люди стоят между столиками, девицы кокетливо спускают с голого плеча шаль, но здесь собрались не обычные завсегдатаи; посетители не разбились на отдельные группки — наоборот: всех их объединяет шумная тревога, каждый говорит не совсем то, что думает, трехцветные кокарды и букетики фиалок, воткнутые в петлицу, — все это дышит явным, почти наглым вызовом. Мундир Теодора сразу же произвел свое действие, какие-то громилы подталкивают друг друга локтем, и вокруг сыплются — несомненно, в его адрес — преувеличенно громкие и малолестные замечания. Теодор присел за маленький столик, из-за которого только что встал, расплатившись по счету, старичок с двумя местными девицами. Теодор решил не обращать внимания на вызывающее поведение публики. Вытащил длинную трубку, спокойно закурил. За соседним столиком сидел, тоже в одиночестве, молодой человек в коричневом сюртуке с черным воротником и в очках, он что-то строчил, покрывая мелким убористым почерком листки бумаги, затем откладывал их в сторону.
Однако в голове у Теодора… Как сделать выбор? Кого выбрать? Человека, ради которого приходится вести непрерывные войны, или того, кто надеется продержаться на троне лишь с помощью иностранных штыков? Впрочем, вопрос этот для Теодора формулируется не совсем так: он колеблется в выборе между Марк-Антуаном д’Обиньи и Робером Дьедонне. Голова или торс… эта мысль так и не приходит к логическому своему завершению. А кругом угрожающие взгляды, с вызовом впивающиеся в него глаза, пропитанное алкоголем дыхание юнцов… Ничего не знает сегодняшним вечером Теодор: будет ли он сопровождать улепетывающего из столицы короля или немедленно сцепится вот с тем юношей, который мерит взглядом мушкетера, не стесняясь, вслух высказывает свои соображения по поводу «алых мундиров». В нем неудержимо нарастает желание вступить в драку, он чувствует, что ноги у него крепкие, не подведут, он расправляет плечи, напружинивает мускулы рук — еще минута, и он бросится на обидчика. Впрочем, почему бы и не подраться? Лучше уж сразу покончить все счеты с этим миром на здешних улочках по примеру того дурачка, который прожил бы такую посредственную жизнь, а принял минувшей ночью вполне пристойную смерть… Где же все-таки он видел своего соседа, этого мальчика лет двадцати, строчившего что-то с таким восторженно-старательным видом?
Но вдруг кто-то присел за его столик. Старик с седой бородой и всклокоченной гривой, в старом, разодранном карике — этакий величественный нищий; великолепно гордым жестом он остановил молодых людей, двинувшихся было к мушкетеру.
— Не узнаешь? — спрашивает старик. — Выпить здорово охота. Угости, а?
Это Кадамур, натурщик. Им подают пиво. Сколько же ему лет? Сколько бы ни было — в обнаженном виде он может не бояться сравнения с Наполеоном. Впрочем, это он участвовал во всех боях, запечатленных на полотне, во всем, что создавала школа Давида, вдохновляясь древнегреческими сюжетами. Он позировал для Жироде и для Прюдона. Несколько поколений художников корпели, воспроизводя его дельтовидные мышцы. Он был среди трупов на кладбище под Эйлау, равно как и при Фермопилах, которые втайне ото всех писал Давид. Всю жизнь он торговал своей физической красотой — и, надо сказать, на ней не разжился.
— А ну-ка, дайте мне побеседовать с этим господином, — скомандовал он, обращаясь к наседавшим юнцам, — он художник, а в плюмажах он или нет…
Здесь Кадамура знали. Он был республиканец и однажды приходил сюда с Дюпле Деревянной Ногой, племянником столяра, у которого жил Робеспьер, а этого было достаточно для всех, и в том числе для самого Кадамура. Ибо никто не знал, что Деревянная Нога служит в полиции. Конечно, в полиции, руководимой Фуше. Но все-таки в полиции. Он доносил на рабочие объединения. Зато все видели его деревяшку, заработанную под Вальми. Показываться в квартале Пале-Ройяля с патриотом, раненным под Вальми, — это уже своего рода рекомендация. Итак, Теодора и Кадамура оставляют в покое. Кстати, какая-то девица, взгромоздившись на стол, запевает: «Уезжая в Сирию…» — песню, которую сочинила королева Гортензия, вы только подумайте!
— Я, — говорит Кадамур, — я вовсе не за Бонапарта, он приказал стрелять в народ из пушек с паперти собора святого Рока.
Но это больше так, для красного словца, для затравки. Все мысли Кадамура нынешним вечером вертятся вокруг искусства, не говоря уже о том, что и табак у него кончился. Такова жизнь!
Громко произнесенное имя Бонапарта заставило молодого человека, сидевшего по соседству, поднять глаза, укрытые за стеклами очков, — он даже бросил писать. Кадамур заметил это, наморщил нос и сразу переменил тон:
— Видите ли, господин Жерико…
Он обращался к Жерико то на «вы», то на «ты», с непостижимой быстротой заменяя одно местоимение другим.
— За то, что вы нацепили красный мундир, я лично вас упрекать не стану. Та ли на тебе мишура, другая — один черт. Но вот чего я никак в толк не возьму, почему ты бросил живопись, малыш, до чего же это глупо, да и нехорошо…
Сведения эти он почерпнул у Дедрё-Дорси, которому позировал для статуи Эпаминонда. Вселенная в представлении старика Кадамура замыкалась мирком живописцев и скульпторов. Все прочее вращалось вокруг него. Революция, войны… Кто знает, уж не потому ли ополчился он против Реставрации, что сейчас в моду вошли картины из жизни Генриха IV и вытеснили голую натуру, а он, Кадамур, никак не годился для роли ловеласов, да и кому он был нужен в качестве одетой модели? Эти соображения сами собой срывались с его языка вперемежку с не идущими к делу замечаниями, и при этом глаза его смотрели мечтательно и наивно, а сколько еще мыслей теснилось в голове старого натурщика — только выразить словами он их не умел.
— Видишь ли, сынок, — говорил он, — я, слава-те господи, немало потаскался на своем веку по мастерским… то у одного позируешь, то у другого, а люди смотрят на тебя отчасти как на собаку или, скажем, как на кошку… стой и не шевелись, замри в красивой позе, устреми взор в пространство, а больше они о тебе ничего знать не желают… ведь меня они зовут потому, что бедра стройны, а не ради того, что у меня в башке есть… эти господа распускают при мне язык без всякого стеснения, ну, словно перед ними шкаф какой. Наслушался я всякого. Так вот, если не говорить о разных подвохах, я-то, поверь, знаю, когда они кого-нибудь ценят. Не жди, чтобы они об этом на всех углах кричали! Конкуренция не позволяет, заказы.
К чему он клонит? Клубы табачного дыма примешивались к густому пивному духу, окутывали посетителей, сидевших чуть ли не на головах друг у друга. Теодору невольно вспомнилось прошлое: мастерская Герена, неудачи, унизительные замечания, все то, от чего хотелось умереть, вскочить на своего коня, пустить его бешеным галопом, преодолеть заграждения на улице Мартир, по внешним бульварам, огибая Монмартр, туда, за город, умчаться на простор, в Сен-Дени или Монморанси… Бог мой, как колотилось у него сердце после безумной скачки! Казалось, вот-вот разорвется грудная клетка. Но зато он забывал кислые взоры товарищей, их шепот за спиной, презрительные советы мэтра.
— Чего вы не знаете, господин Жерико, — это того, что они за твоей спиной говорили… Неужто не понимаешь, что ты им как бельмо на глазу? Ведь твои штуковины ни на что не похожи. А главное — ни на кого. Вот в чем твоя вина… вот что их всех гложет. Уж поверь мне, я сорок лет без малого слушаю их стрекотню. С младых ногтей. И понимаю, что значит, когда они таким особенным голоском начинают говорить, чтобы ты их не понял. А ты-то воображаешь, что они осуждают тебя, презирают. Дурак вы, господин Жерико, — восхищаются они вами, вот что. Только у них уж такая манера восхищаться, ничего не поделаешь.
Этим вечером Теодор не верит ни во что и никому. И не Кадамуру дано поднять его дух! Нынче вечером… да разве о живописи идет речь нынче вечером, когда в Павильоне Флоры рвутся нити, рвется сама основа Истории, когда во мраке звучит нестройный хор голосов всеми забытого народа, признавшего вновь — и, казалось, навсегда — белый стяг с королевскими лилиями. Но этот народ сейчас, под дождем, секущим улицы, где царит непонятное глухое волнение, вдруг затягивает песни. Нынче вечером, когда закрывается Салон и снимают со стены «Офицера конных егерей», чей торс списан с королевского гренадера, а голова — с республиканца.
О чем это бишь говорит Кадамур? Обо всем разом. Он издавна питает к господину Давиду слабость. Если он в чем и мог бы упрекнуть Теодора, то лишь в том, что его живопись выдвигают в качестве, так сказать, боевого коня против живописи Давида.