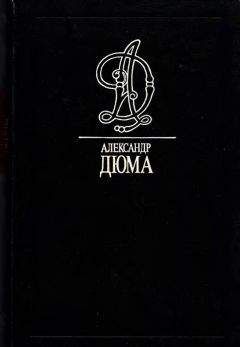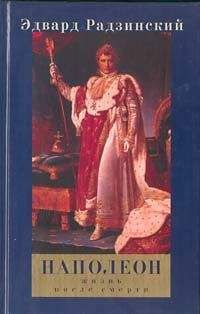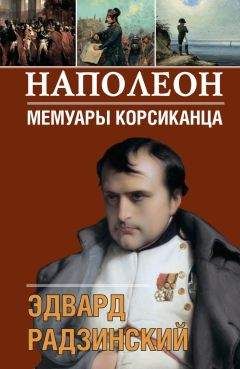Петр Краснов - Опавшие листья
— А за Федьку.
— Михаил Павлович! Побойся бога. Мальчику четырнадцать лет.
— Пятнадцать почти.
— Игрушки у него на уме. Он, если на дворе, так это из-за савинских лошадей и кучеров. А Феня… да и она не девчонка. Невеста уже!..
— Э, матушка, такие-то мальчишек и портят. Уже больно он хорош… Да и возмужал. Нет, довольно. Моложе, чем няня Клуша, чтобы не было прислуги… Поняла?..
— Михаил Павлович. Пощади! Какая муха тебя укусила?
— Не муха, матушка моя, а… — Михаил Павлович потянул носом, — любовью этой самой по всей квартире пахнет, весна… И нехорошо… Так и знай… Не переменю. Ни Suzanne, ни Лизы чтобы к осени не было. И духом их чтобы не пахло.
— Михаил Павлович!
— Ну, будет… Кажется, не первый год знакомы… Когда наметила на дачу?
— В четверг, на будущей неделе.
— Уложиться-то успеешь?
— Да, кое-что укладываю.
Михаил Павлович пыхнул трубкой и окутался табачным дымом.
— Заботят меня, Варя, дети, — сказал он. — Вот они где у меня сидят. — Михаил Павлович похлопал себя по затылку. — Не имели мы права рожать их.
— Господи!.. Да что ты говоришь, — испуганно воскликнула Варвара Сергеевна. — Опомнись… Божие благословение… Благодать Господа на нас…
— Говорю, что думаю. Родить-то мы родили, а воспитать?
— Сделали, Михаил Павлович, что могли. Слава тебе Господи. Всех в гимназию определили. Идут — радоваться надо. Бога благодарить… Гордиться можем. Не у всех такие дети. По два года в классе не сидят.
— Гимназия… Да в гимназии-то чиновник… Поняла? Я — чиновник, и они уже чиновники. "От и до". Все рыцари двадцатого числа и только… Бога не вижу у них, любви…
У нас была семья, деревня, была Россия… Мы умели любить… И стихи, и цветы, и букеты, и конфеты… У них любовь — животный акт… А!.. Да не дергайся, матушка. Дело говорю. Говорю то, чем страдаю побольше твоего. Не поспевают они за жизнью. За народом не поспевают чиновники-то новые. Теперь Россия — колосс необъятный, вся в порыве вперед. За границей переводят и изучают Толстого, Тургенева, Гоголя, Достоевского. О нас уже там целая литература. Менделеев, Меншуткин, Бекетов, Потанин, Пржевальский, Яблочков, Семенов, Гоби — это, мать моя, европейские ученые и жизнь обязывает идти за ними… Обязывает, черт возьми, работать… А они остановились. А! не они виноваты… Царь виноват… Режим виноват… Я, матушка, либералом был, либералом и останусь. Я вижу — народ прыгнул вперед, а мы его земским начальником, исправником, становым, да полицией, да классическим образованием. Тишина!.. Да… Тишина…
Михаил Павлович замолчал и порывисто сосал длинный чубук. В черешневой обожженной чашке среди серого пепла вспыхивали красные искры. Хрипел чубук. Варвара Сергеевна испуганными глазами смотрела на мужа. Жизнь ее детей, как черная скала, надвигалась на нее, рисуясь острыми зубцами на красном мятущемся тучами кровавом небе. "Господи! — думала она, — и слава тебе, Господи, что тишина и порядок… Господи, тихое и безмятежное житие даруй нам во всяком благочестии и чистоте… Что еще Бога гневить!? Хорошо теперь… Тихо"…
— Тишина… — повторил Михаил Павлович и пустил кольцами дым. — А не обман ли? Могучий властный император все возложил на свои широкие плечи… А, не дай Бог, умрет? Общественность, придавленная теперь, потребует своей доли в управлении, и поднимает голову темный жадный мужик. Надо быть во всеоружии знания и силы… А с чем придут в жизнь мои молодцы? Мы знали жизнь. Мы видали деревню. Они наблюдают ее из дачного палисадника…
Гасли весенние сумерки в кабинете. Пригорюнившись, сидела на постели Варвара Сергеевна, и красные пятна сошли с ее поблекшего лица. Оно было бледно.
— Мой отец знал, что делал, пока не свихнулся. Он верил в Бога и боготворил царя. Он был примером для крестьян. Но он увлекся и бросил имение без своей руки. Я оторвался от деревни, но я верил в благодетельность реформ Александра II и слепо шел за ним… К парламентаризму… к конституции… Народ, мужика хотел я ввести в министерства и сказать: — Правь! Теперь тяжелая рука императора, оскорбленного в сыновних чувствах убийством отца, остановила нас на полпути и нам не говорят настоящего слова. Но инерции порыва вперед не остановишь. Работа идет и детям предстоит не жизнь, а борьба… Страшно, мать моя… Страшно!.. У нас были — Царь и Бог. У нас была Россия. Они отстали от веры, не благоговеют перед царем и Россия для них — географическое имя. Они жаждут идти в народ. А что они дадут народу, когда у них самих ничего нет. С пустыми руками, с безлюбящим сердцем идут они туда и порывом хотят заменить знание. И когда станут ошибаться — где найдут исправление? Когда я согрешил — я пошел в церковь… Они? Ни молиться, ни плакать, ни каяться они не умеют. Они все сами…
Михаил Павлович отставил чубук, встал и прошелся по кабинету.
— Знаешь, матушка, — сказал он, останавливаясь против жены, — что давит меня? Это — что так страшно тихо… Россия застыла в величавом спокойствии… Да застыла ли? Вот мне иногда чудится… Даже снилось как-то раз что-то подобное… Будто могучий разжиревший конь становился над крутым обрывом. Тяжелый всадник сильною рукою резко сдержал его скок и овладел его волею. Нагнув большую упрямую голову, раскрыв от напора железа пасть, с которой каплет пена, стоит громадный конь. Злобою сверкают его глаза. Он напружил передние ноги и уперся ими в край бездны. Но скользит под ним земля, змеится трещина за его ногами и шире становится… И чудится мне, что вот сорвется громадным комом и, увлекая всадника, полетит под обрыв, ломая кусты, сбивая скалы, калеча ноги, разбивая насмерть… Вот так-то, матушка, и Россия!.. Тишина… Да тишина-то — и не перед бурей, а просто-таки перед крушением…
Михаил Павлович подошел к жене, сел рядом с нею и сказал с глубокою тоскою:
— Тишина над пропастью… А дети!.. Растут дети!.. И они туда же!..
Варвара Сергеевна устремила глаза на образ, тускло мерцавший в углу, и застыла подле мужа. Верующая… покорная…
XXV
Suzanne вбежала в комнату, затворила на ключ дверь и бросилась на постель. Жалко щемило ее сердце. Она ждала единения сердец, бесконечных задушевных разговоров, ночей, проводимых в молчаливом любовании природой, и тихого горения любви, которое разумом приведет ее к алтарю. Спокойной пристани, домашнего очага алкала ее душа. Жаждала выйти из вечной опеки хозяев и самой завести свой дом. Были любовь и увлечение Andre, но были и другие мысли. Она знала, что Мише уже двенадцать лет, что дети перестали с нею заниматься, и понимала, что ее терпят. Она сознавала, что не сегодня-завтра перед нею снова станет вопрос крова и пищи и опять придется нянчить, возиться с жестокими, капризными детьми и приноравливаться к хозяевам. И то, что было возможным в двадцать лет, казалось трудным в тридцать четыре.
Горько было на сердце. Она искала в Andre души, верила в его благородство, и никогда ей не приходило в голову, что это может кончиться так грубо.
С ней поступили, как с гувернанткой, как с низшим существом. Вся ее гордость возмутилась в ней, Если бы она верила в духов — она призвала бы всех духов тьмы помочь ей отомстить наглому мальчишке… Но знала она, что какая-то сила у нее есть, что она может вызывать какие-то непонятные щелчки в воздухе, за две комнаты заставить расплакаться нервного Мишу или сделать так, что выскочат из гостиной девочки и станут уверять, что там кто-то есть, или звякнет фортепьяно, или поднимется стол, но что это за сила — она не знала и управлять ею не могла.
Она понимала: все потеряно. Это пойдет дальше и чем дальше, тем гаже, заметнее, пока не откроется. И ее с позором выгонят.
Любовница гимназиста. Любовница мальчишки. Мелкая дрожь трясла ее тело. С гадливостью она вспомнила красное, потное лицо и волосы, упавшие в беспорядке на лоб.
Она ходила взад и вперед по комнате и ломала руки. Она переоделась, пригладила волосы и подошла к зеркалу. Зеркало отразило поблекшие, увядающие черты. Оно не льстило ей. Лоб желтел и тонкие нити надвигающихся морщин протянулись по нему. Нос покраснел, длинные губы пересохли и потрескались и концы опускались вниз. Кожа желтела в их углах. Румянец горел неровными коричневыми пятнами. Только глаза были хороши. Страшные, трагические глаза. В ней всегда находили что-то фатальное… Но разве фатальные женщины созданы для утех, любви? Она хотела бросить и разбить зеркало. Старая гувернантка!
Как выйдет она к чаю и посмотрит в глаза милой, доброй Варваре Сергеевне? Как взглянет на нее Михаил Павлович? Он давно говорит про их сеансы: "не ндравится мне". У него, как у всех мужчин за сорок лет, какая-то подозрительная наблюдательность. И так же, как Andre, она сознавала всю невозможность продолжать жить в этой семье, где еще вчера ей было уютно и хорошо, где весело смеялись девочки и Andre говорил что-то умное и хорошее.