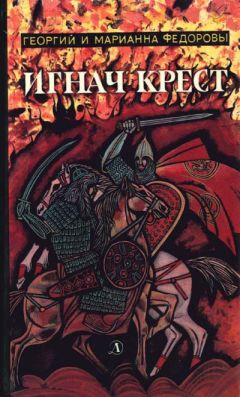Георгий Федоров - Игнач крест
На нее стала заглядываться не только челядь[70], но и люди всякого звания. А однажды, отправив беременную жену в деревенскую вотчину, вызвал ее к себе в горницу сам Степан Твердиславич и объявил, что, не спросясь Даши, отдает ее замуж за Еремку, храброго, но беспутного своего закупа.
На Дашу самоуправство молодого боярина, которого она почитала пуще родного отца, оказало такое тяжелое действие, что она стала молчаливой и замкнутой, как будто окружила себя невидимым, но непроницаемым заборолом[71]. На свадьбе Еремка допился до полного изумления, хватал всех девок, лез к мужикам то драться, то целоваться и в конце концов свалился в беспамятстве.
Всю ночь просидела Даша в подклети, отведенной для молодых, куда перетащили ее мужа, прислушиваясь к его храпу и постанываниям в пьяном сне. Однако, протрезвившись, Еремка отнесся к Дарье с почтением, не раз величал ее по отчеству, никогда не бил, старался во всем угождать. Даша немного оттаяла душой и не то чтобы полюбила своего бесшабашного мужа, но относилась к нему заботливо и снисходительно. В положенный срок родился у нее сын. Роды принимала тетка Ефросинья — старая ворожея. Дарья долго мучилась, прежде чем разрешилась от бремени, а через три дня сын помер, даже окрестить не успели. Тут только в первый раз Дарья заплакала.
— Что ж ты, Фроська, не спасла его, — рыдала она, — нет тебе моего прощения! Сама теперь знахаркой стану, а ты меня наставляй. Все тайны твои выведаю, а лечить научусь…
В это время впервые после многих преждевременных родов жена Степана Твердиславича Меланья благополучно принесла дочь. Назвали ее Александрой. Молока у Меланьи не хватало, девочка целые дни натужно плакала и худела. Дашу взяли в дом кормилицей. Алекса ожила, зарумянилась, загулькала. Меланья была без ума от радости и все время осыпала молодую кормилицу подарками и милостями. Дарья же сама всей душой привязалась к девочке.
Дома Даша вела хозяйство да еще успевала лечить людей, пользуясь знаниями, которые почерпнула от Ефросиньи да и от других знахарок. Еремка же не пытался перейти ту невидимую черту, которая отделяла его от жены. Он затосковал, в конце концов напросился идти в поход с лихими молодцами на далекую Печору, чтобы добыть богатство и выкупить свою и Дарьину купу. Однако из похода он так и не вернулся. Дарья всплакнула, поставила свечку за упокой души убиенного мужа и продолжала растить Александру, а потом и ее брата Мишу. После смерти Меланьи и все хозяйство посадника легло на плечи Дарьи, да только перечила она часто Степану Твердиславичу, и он как-то раз в гневе отослал ее на дальнюю свою вотчину, в деревню Игнатовку, где она и жила уже без малого пять лет в доме Еремкиного брата Игната Трефилыча…
* * *Когда Дарья Пантелеевна ввела рыцаря в полутемный предбанник, освещенный только двумя лучинами, воткнутыми в железные светцы, прибитые к стенам, Иоганн от усталости мало что соображал. Тепло предбанника совсем разморило его, и он безвольно опустился на широкую лавку, закрыл глаза и привалился к стене. Дарья не спеша, ловкими уверенными движениями стала стаскивать с него одежду и бросать в деревянное корыто с зольной водой. Глядя на тощее, мосластое тело рыцаря, покрытое старыми шрамами да ожогами и новыми ушибами и царапинами от ударов мечей и сабель, она почувствовала к этому высокому и вроде бы совсем чужому ей человеку острую жалость, подумала: «Натерпелся он за свою жизнь. А теперь вот кладет голову за Новгород, за нашу землю, а ведь сам-то из чужих краев…»
Когда Дарья распахнула дверь в парильню, в лицо Штауфенберга ударило таким нестерпимым жаром, что он невольно попятился, но Даша втолкнула его внутрь, притворила дверь, окатила полок ведром холодной воды, чуть ли не на себе втащила туда Иоганна, предварительно надев ему на голову толстую шапку, и он растянулся на животе, задыхаясь от жары и жадно глотая раскаленный воздух. Тогда Дарья подсунула ему под лицо распаренный березовый веник, чтобы облегчить дыхание. Потом спустилась вниз, плеснула из деревянного ушата воду на печку-каменку, и всю парильню заполнил горячий, пахучий, обжигающий пар. Иоганн решил, что пришел ему конец, и покорно закрыл глаза, как вдруг почувствовал, что к его телу прикасаются какие-то прутья, что они начинают ударять его все сильнее и сильнее. Не без труда подняв голову, он увидел в парном тумане близко от себя облепленное мокрыми распущенными волосами лицо Дарьи, которая ловко шлепала его березовым веником.
«Ведьма», — с удивлением и некоторым страхом подумал рыцарь, но не успел ничего сказать, как Дарья перевернула его на спину, снова поддала пару и стала хлестать его теперь уже дубовым веником.
Штауфенберга охватило безразличие, нечто вроде дремоты или беспамятства. Пот стекал с него тонкими струйками. Однако вскоре он почувствовал сильную жажду и открыл глаза. Дарья стояла внизу и цедила какую-то темную жидкость из макитры в глиняную кружку. Рыцарь протянул было руку к кружке, но Дарья вылила жидкость в ушат с водой, взятой из вмазанного в печь котла, и плеснула на раскаленные камни. Снова парильню наполнил с ревом нестерпимый жар перегретого пара, запахло ржаным хлебом, медом и какими-то травами. И опять рыцарь закрыл глаза, впав в блаженное полусонное состояние, и ощутил хлесткие удары веника, которые теперь доставляли ему удовольствие. Однако на этот раз залеживаться ему не пришлось. Дарья проворно стащила его с полока, вывела из парной, а потом и из предбанника и толкнула в сугроб. У Иоганна перехватило дыхание, но он и слова сказать не успел, как очутился опять на полке. И так несколько раз. Наконец Дарья отвела его в предбанник, дала кружку прохладного кваса с добавлением настоя трав, которую рыцарь, умеренный обычно в еде и питье, в один миг с наслаждением осушил.
Иоганн почувствовал, как легко становится ему дышать, словно он вдыхал воздух не только грудью, но и самой кожей. Открыв глаза, он следил за ловкими, умелыми движениями вытиравшей его Дарьи. Он пробормотал:
— Ну и хороша же ты!
Дарья строго сказала:
— Не балуй, боярин, — и продолжала вытирать его. Потом натянула на него чистую холщовую рубаху и такие же порты.
Рыцарь ощутил, что усталость улетучилась куда-то, что все новые силы вливаются в него, что прошло привычное зудение и глухая боль от старых и новых ран, словно он стал опять беспечным студентом, исколесившим чуть ли не весь мир от Роны и Гвадалквивира до Желтого моря. Когда лицо Дарьи оказалось особенно близко, Иоганн не выдержал и воскликнул:
— Мадонна миа! О Мадонна! Как ты прекрасна!
— Да будет тебе, болезный, — сказала она. — И кто же это так изрубил, покалечил тебя? И в чем только душа держится, — запричитала она с искренней жалостью.
Штауфенберга, с которым никто не говорил с таким участием с самого детства, охватило новое неведомое чувство. Он не отрываясь смотрел на Дарью, которая уже успела переодеться и причесывала большим костяным гребнем длинные волосы, заплела косу и надела повойник. Видел, как посверкивают золотистые искры на ее смуглых руках, как ладны, точны и несуетливы ее движения. Иоганн хотел вскочить, чтобы обнять ее, но не смог пошевелить ни руками, ни ногами, — видно, предусмотрительная знахарка опоила его каким-то зельем, добавленным в квас. Рыцарь погрузился в короткий, но глубокий сон.
Когда он очнулся, то первым делом обратился к Дарье с вопросом:
— Чем это ты меня с ног свалила, хозяюшка? Из чего ты, Дариа Пантелеевна, это сонное средство сделала?
Дарья промолчала, но Иоганн увидел, как в глубине ее зеленых глаз появились и словно заплясали веселые огоньки. Потом глаза у нее стали серьезными, и она сказала каким-то непонятным, но сжавшим Штауфенбергу сердце тоном:
— Не зови меня хозяйкой, боярин, я ведь из семьи закупов, и отчество мне не положено…
— Тогда ты меня Иоганн или, по-вашему, Иван называй. Хорошо?
Дарья неопределенно пожала плечами.
— А как же, хозяюшка, Игнат Трефилыч? — продолжал расспрашивать рыцарь.
— Так ведь он не закуп, а своеземец, человек вольный, хозяин своей земли. Он платит дань только Господу Богу да Новгороду. Других господ над ним нет.
Рыцарь проговорил что-то возмущенно на своем родном языке, но Дарья, хоть ничего и не поняв из его слов, чутко уловила суть. Она низко и благодарно ему поклонилась:
— Пойдем, Иоганн, пора.
Они вышли во двор, и здесь рыцарь, с которого в бане сошло семь потов и, как ему показалось, несколько слоев кожи и два-три десятка лет, поддавшись неожиданному порыву, поднял Дарью Пантелеевну на руки.
— Ты что, ты что, боярин! — вскрикнула Дарья и выскользнула из его объятий, но Иоганн крепко сжал ее руку, и она затихла.
— Есть еще силушка! — сказал он. — Du bist so schön! Ich kann mit mir nichts machen[72],— пробормотал Иоганн Жанн на немецком языке, который, как и франкский, был для него родным с детства, и, шагая длинными голенастыми ногами важно и неторопливо, как цапля, пересек двор, отворил дверь и, ведя Дарью за собой, стал подниматься по лестнице.