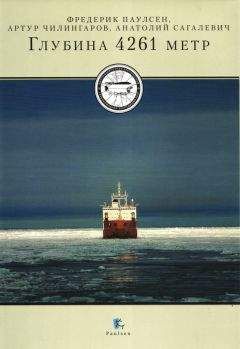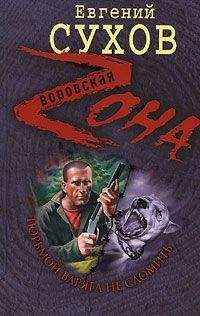Александр Башкуев - Призвание варяга (von Benckendorff)
Когда я подрос, я с особым рвением взялся за персидский с турецким, чтоб самому попытаться прочесть сии письмена, но…
В возрасте девятнадцати лет я отправился на Кавказ за бакынскою нефтью. Подробнее я расскажу в свой черед, а здесь я должен признаться, что взял с собой несколько украшений, чтоб там, на Кавказе мне их прочли и сказали — кто я. (Не знать восьмую часть своей Крови — просто ужасно.)
Лишь на Кавказе мне доложили: «Это — ингушский язык». Одна из трех надписей была Хвалою Аллаху на ингушский манер. Вторая — подписью золотых дел мастера. И лишь в третьей на золотом браслете тончайшей работы мои предки сказали мне: «Любимой моей в день нашей свадьбы». И под этим: «Доченьке в день ее свадьбы». Две фразы и — ничего. Ни имен. Ни названий. Ни даты. Но мне показалось, что кто-то оттуда из темноты сказал мне, что — Любит меня.
Я понимаю, что по одной вещи нельзя вдруг судить о том, кто были мои предки. Но три надписи на столь редком наречии вселяют уверенность. И я верю, что во мне восьмая часть Крови — Ингушская. Это привело к странным последствиям.
В те годы мне пришлось воевать на стороне персов с чеченами, а потом на стороне наших с лезгинами и прочими дагестанцами. Но я всегда просил командиров: «Не отсылайте меня дальше на запад. Я не пролью крови ингушей, какими бы они врагами для нас ни были». Генералы слушали мое объяснение, видели мой женский браслет, который я носил вместо амулета на шее, мягчели лицом и входили в мое положение.
Я верю, — величайшее преступление пролить Кровь брата своего. Я не знаю, кто из ингушей точно мой брат и для верности не хочу ошибиться.
Потом, когда Ермолов с казаками стал громить поселения горцев, я открыто назвал его «моим кровником» и обещал расплатиться за кровь братьев моих. Это стало известно в войсках и привело к ужесточенью вражды казаков и егерей. Потом же, когда я сместил Ермолова и пересажал его всю родню с казацкой головкой, война на Кавказе стала моею войной. Государь сказал мне, что после расправы с Ермоловым, я должен показать русским, что я — против горцев. Тогда я послал на Кавказ опергруппу фон Розена, чтоб они навели там порядок.
Не буду вдаваться в подробности, но очень быстро фон Розен собрал всех горских вождей в одно место, а потом всех схватил и зарезал. Почти всех…
Внезапно он вернулся в Санкт-Петербург и просил со мной встречи. Я принял его и поздравил с успехом и награждением. Но палач мой почему-то был не в себе. Он все время бледнел и странно нервничал. На него, вешавшего поляков аж тысячами, это было совсем не похоже. Я удивился и спросил генерала:
— Друг мой, что с вами? Вам нездоровится?
Розен побледнел еще больше и, запинаясь, пробормотал:
— Ваше Сиятельство, правильно ли я Вас понял, когда Вы говорили, что все, что мы сделаем на Кавказе — сделано Вашею Волей и будто бы Вашей Рукою, так что мы не должны сомневаться и думать при действиях?
Я удивился. Это была обычная формула и я всегда отвечаю за деянья парней, так что…
— Разумеется. Когда я вас подводил?
— Значит, мы убивали Вашей рукой и Кровь жертв пала на Вашу Голову?
Только тут я вдруг понял, куда идет речь. Сердце мое опустилось и я хрипло ответил:
— Да это так. Даже если бы вам пришлось убить моих сына, иль брата…
Фон Розен помолчал, не зная, как продолжать, а потом почти шепотом произнес:
— Среди этих. Ну… Пленных… Было пять ингушей. Я хотел было их… Тоже в расход, как и прочих, а потом вдруг и вспомнил, что Кровь — на Вас, а не на меня, а Вы говорили, что в Вас… И что убийство брата для Вас — тягчайшее из несчастий…
У меня захватило дух. Красные круги пошли пред глазами. Я тихо спросил:
— И что же вы сделали?
Фон Розен медленно выпрямился во весь рост и сухо отрапортовал:
— Я их отпустил. Сказал, что мой шеф — на одну восьмую ингуш и не может убить своих родственников. Они сперва растерялись, а потом оседлали своих скакунов и уехали. Через неделю отряд под командой ингуша Шамиля напал на нашу деревню и многих убил… Я отпустил сего душегуба и теперь готов нести за сие любую ответственность.
Мои секретари слушали это с разинутым ртом. Гробовое молчанье затягивалось, а потом я приказал князю Львову:
— Пишите приказ. За неисполненье задания генерала фон Розена отозвать и отправить в резерв. На мое усмотрение. Число. Подпись.
Фон Розен чопорно поклонился, щелкнул мне каблуками, звякнул шпорами и по-военному развернувшись, пошел из моего кабинета. Да только я его догнал у дверей, и положив ладонь на его руку, взявшуюся уж за дверную ручку, с чувством выдавил из себя:
— Спасибо Вам. Этого я не забуду.
Отзыв фон Розена привел к тому, что мы опять отвели всех егерей с Кавказа, а русские не имели технических средств, чтоб драться с горцами. Резня пошла пуще прежнего, но однажды… В одном из боев горцы пленили жандарма. (На всю Империю — триста жандармов, так что это стало сенсацией.) Все думали, что горцы потребуют за него дикий выкуп, но их вождь Шамиль вернул моему парню оружие и на прощанье сказал ему так:
— Вернись к господину и передай. Пока он помнит, что я ему Брат, я был и остаюсь ему Верным Братом. Да не допустит Аллах нашей встречи в этих горах!
После этой истории все пошло по-другому. Пленных горцев, если не убивали на месте, то после сортировали и на каторгу ингуши шли старостами колонн. Не могу сказать, что им были поблажки, но… жандармы никогда их не трогали. А уж тем более — всякая шушера из тюремного ведомства. В России ж открыто считают, что мы заодно с дикими горцами и даже, якобы, мои унтера ездили на Кавказ учить ингушей стрелять из винтовок с оптическими прицелами!
Ничего не могу сказать по этому поводу, но ряд особо ненавистных казаков был и вправду убит неизвестными с фантастических расстояний. Впрочем, я верю, что стреляли не ингуши, но кто-то из моих «лесных братьев», готовых идти на любую войну, чтоб только всласть пострелять по казакам.
Считая от отцов к матерям, я на одну восьмую — генерал «мужицкого рода». Вторую — остзейский барон «старого образца». Третью — обычный латыш, пират и разбойник. Четвертую, я верю — ингуш, кызылбаш. Пятую — голландец, банкир, ростовщик и разведчик. Шестую — ганноверский немец — купец. Седьмую — немецкий швейцарец, гениальный ученый, романтик. Восьмую — еврей, раввин, архитектор.
Говорят, от смешенья Кровей родятся удачные дети. Похоже, — мне повезло.
Генерал Бенкендорф был направлен с «важной государственной миссией» в Крым в начале августа 1782 года, а вернулся домой только по специальному разрешению Ее Величества в ноябре. Жили они с матушкой с той поры в разных домах.
Я — Карл Александр фон Бенкендорф родился на рассвете 13 июня 1783 года по русскому календарю, или 24 июня — по календарю европейскому. В Лифляндии в этот день празднуют день Солнцеворота — Лиго, матушка увидала в том особое предзнаменование и просила родню подарить что-нибудь младенцу на память.
Эйлеры подарили мне золотое перо и простенькую чернильницу — Леонарда Эйлера. Фон Шеллинги прислали из Пруссии «дорожные» сапоги — Эриха фон Шеллинга. Бенкендорфы, с дозволения Архиепископа Рижского, подарили мне рыцарский меч моего легендарного предка — наполовину эста Тоомаса Бенкендорфа. А латыши Уллманисы поднесли мне дубовый венок Короля.
Это покажется мистикой, но все эти дары оказали самое странное и магическое влияние на всю мою жизнь.
Детство мое я провел голозадым сорванцом-латышонком, но дубовый венок мой пожух и вскоре осыпался.
Юность моя ничем не отличалась от юности офицера германского вермахта. Но уезжая на Персидскую войну, я вернул проржавелый меч в Собор, и, по преданию, архиепископ, проводив меня, сказал так:
— Плачьте, братия. Властитель наш отказался от родового меча. Ливонии теперь никогда не подняться из пепла…
Молодость моя прошла в скитаниях по всему миру. В день, когда я вернулся из Парижа в 1811 году, матушка просила примерить еще раз прадедовы сапоги. И, о чудо! Сапоги, которые всю жизнь были велики мне, вдруг оказались совсем узкими и крошечными. Тогда матушка собственноручно кинула их в печку, принеся пылкую хвалу Господу Нашему со словами:
— Свершилось. Мой сын вырос из сапог деда моего. Слава его переросла славу основателя Абвера! Теперь я могу умереть.
Что же касается пера и чернильницы… В этом тоже есть нечто мистическое, — всякий раз когда я притрагиваюсь к этим самым священным для меня реликвиям, какие-то неведомые флюиды пронизывают меня насквозь и мне чудится, что весь мой народ в этот миг подле меня.
Венок Короля Лета, Меч Повелителя Риги, Сапоги Отца Абвера — все это было и сгинуло, как сон в летнюю ночь. Осталось перо, чернильница, неверное мерцанье меноры в темноте тихого дома и стопа чистой бумаги…
А может, — все ровно наоборот? Зачем мне перо и чернильница, если не о чем, да и незачем бумагу марать?