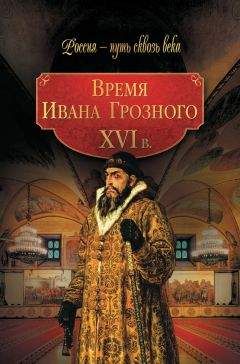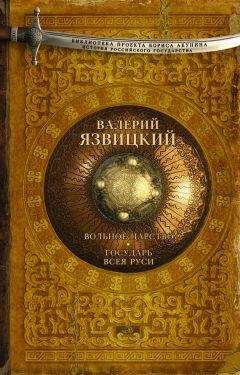Михаил Козаков - Крушение империи
В подвале, куда он зашел, увлекаемый толпой, сидел на корточках у печи какой-то парень в смушковой шапке. Он деловито отвинчивал кран от медного куба. В ногах лежал мешок, наполненный почти доверху.
— Отрезали немецкому графу усы! — заметил кругленький бородатый ратник запаса и осклабился. Винтовка у него была за плечами на веревочке, вместо ремня.
— Сколько добра здесь погибло, боже ты мой! — сокрушался, подмигивая Асикритову, какой-то субъект с жеваным серогубым лицом, в котиковой облезлой шапочке.
— А тебе жалко? — сурово поглядел на него ратник. — Печальник графский!
— Да как же… Зачем жечь?
— А ты кто? — насели уже несколько человек. — Не фараон, часом? Эй, братцы! Вот тута нашелся один субчик, добра графского жалеет. А ну, на проверку!
— Да вот спросите их, вполне интеллигентного гражданина, — растерянно искал «субчик» защиты у Асикритова. — Разве, я такой?
— Вы его знаете? — оглядели с разных сторон Асикритова.
Он, усмехаясь, пожал плечами:
— Еще, товарищи, в древности сказано: зло причиняет себе, кто ручается за постороннего, а кто ненавидит ручательство — спасен будет.
И повели этого с жеваным лицом и котиковой шапочкой на милицейский пункт: пусть там разберутся!
Враг не только на чердаках домов, — он здесь, в толпе, на улице, что еще более страшно, и действует он более опасным, испытанным оружием — лживым языком провокатора.
Внимание Фомы Матвеевича привлек прилично одетый — «по-джентльменски» — господин в шубе с обезьяньим мехом. На Невском, у закрытого книжного магазина, стоя на верхней каменной ступеньке крыльца, джентльмен — один из тысячи уличных ораторов — держал речь перед собравшейся публикой. Медоточивым голоском, умиленно глядя добродушными глазами сквозь стекла рогового пенсне, джентльмен воспевал прелести нового режима. Но вдруг, уловив, как и все, шум с соседней улицы, заговорил, насторожась, по-иному:
— Не кажется ли вам, господа, что там (жест в отдаление)… что там началась канонада? Не идут ли правительственные войска? Ведь вырежут всех! Сегодня я слышал о десяти эшелонах, которых ждут на Балтийском вокзале. Что-то будет!
Публика тоже настораживается, люди нерешительно переглядываются друг с другом, и тревога набегает на их лица.
— А в самом деле, будто стрельба пошла, — повторяет хорошо одетый господин в роговом пенсне и задумчиво качает головой, словно задушевно беспокоясь за судьбу нового порядка.
В увлечении своей игрой («Подлец!» — в том нет сомнений у Фомы Матвеевича) искусный оратор не замечает, как давно и подозрительно на него поглядывают в упор воспаленные глаза густобрового, меднолицего матроса. Тот вынул трубку изо рта и наблюдает: «Сладкий барин! Кто он?» Если он не спохватится вовремя и не оставит своей провокаторской игры — близок здесь канал с черной невской водой. А еще ближе: на поясе балтийца — тяжелый не щадящий маузер.
Но джентльмен вовремя поймал пристальный взгляд матроса — и хлещет, хлещет теперь новым потоком медоточивых слов, усыпляющих подозрения:
— А впрочем, никакой канонады нет, товарищи. Откуда ей быть? Чепуха! Нервы! Нам только послышалось. Революция победила раз и навсегда. Да здравствуют рабочие, солдаты и матросы!
— То-то же… — отходя, бурчит матрос. — Ежели бы не ошибка моя, глотку бы тебе разодрал!
На углу Надеждинской и Жуковской Асикритову закупорила путь шумная людская пробка: задрав головы, толпа уставилась в окна третьего этажа, наблюдая за тем, что там происходит.
У дома на панели возвышалась громадная куча битой посуды, разломанной мебели, кухонной утвари, белья.
— Кого это так? — заинтересовался Фома Матвеевич.
— Известно, кого: жандармского генерала Попова!
— Ах, вот оно что! А сам-то он где?
— Кто говорит — кокнули, а кто — спрятался, дяденька! — охотно и услужливо влез в разговор белобрысый мальчуган лет девяти. — Смотрите, смотрите, дяденька!
Из среднего окна медленно лезло наружу ножками вперед массивное, красного сафьяна кресло. Высунувшись на две трети, оно качнулось и рухнуло тяжело вниз.
— Так его! — одобрительно пробасил рядом с Асикритовым чей-то сиплый, мрачный голос.
В выбитом окне появилась голова солдата в фуражке с желтым околышем. Солдат — рябой, круглолицый, помахивавший приветливо рукой, — тепло и широко улыбался толпе, как забавляющемуся ребенку.
Он словно радовался, что смог доставить ей удовольствие.
Весьма щедрый — он послал вслед за креслом овальное зеркало в раме из черного дерева.
Тем временем в соседнем окне появился другой солдат. (В квартире Попова их было теперь достаточно.) Он развернул какой-то белый предмет, похожий на папирус, и на улицу со свистом, размотавшись на лету, полетела широкая и длинная, до земли, лента. За ней — другая, третья. На лентах были какие-то непонятные значки.
— Гляди, гляди! Тайные донесения, вишь!
— А не ноты ли для фонолы? Конечно, ноты! — наклонившись над одной из лент, разъяснил толпе Асикритов сакраментальные знаки.
Он не ошибся.
— Но-оты… — разочарованно сказало несколько голосов. — С чего бы это у жандармского генерала ноты?
Из окна, сияя отлакированным черным кузовом, лезла уже и сама фонола.
«Приятно эдак после сытного ужина подсесть к инструменту, нажать ногами на педали, наложить персты на рычажки и музицировать без малейшего участия души вальс Шопена или романсы Глинки». Фома Матвеевич живо представил себе протопоповского генерала за этим занятием в домашнем кругу, в присутствии гостей.
Ниспровергатели генеральского уюта, видимо, устали: теперь они лениво и машинально выбрасывали на улицу разные вещи. Вслед за тяжело шлепнувшейся на землю фонолой полетел чайный розовый сервиз, вышитые подушечки с тахты, альбомы, клетки для птиц, дамские платья и ворох ученических тетрадей.
Один из солдат вынул шашку и стал рубить остатки рамы в окне, расчищая дорогу для огромных дубовых тумб от письменного стола.
Рядом с солдатом появился в окне какой-то субъект в каракулевой круглой шапке. В высоко поднятых руках он держал икону. Он словно нарочито показывал ее толпе. Потом взмахнул руками, и богородица плюхнулась с высоты на землю.
— Бог ты мой, да рази можно так? Нехристи! — завыла в толпе простоволосая женщина с младенцем на руках, и в толпе пошел невнятный гул.
У осквернителя религии была богом и полицией меченная физиономия: щеки бритые, низкий кирпичный лоб, злые глазки, жесткие, как ламповая щетка, грязно-рыжие усы.
«Ведь провокатор, сущий охранник! — возмущенно подумал о нем Фома Матвеевич. — Такого бы за шкирку да под арест».
Он готов был заняться этим делом, но сообразил, что разгром генеральской квартиры еще продолжится, что надо выжидать, покуда фараон спустится вниз, — а времени у Фомы Матвеевича оставалось мало, и он поневоле покинул место происшествия.
Недалеко от ворот своего дома он увидел неожиданно Теплухина. Тот шел навстречу вялой, сбивающейся походкой глубоко, задумавшегося, рассеянного человека. Голова опущена, руки засунул в карманы шубы.
У Асикритова была очень хорошая память старого газетчика: он вспомнил в тот момент, что года два назад с лишним он однажды встретил здесь же, в доме на Ковенском, Теплухина. Тот спускался тогда по лестнице, а он, Асикритов, подымался наверх. А теперь — опять тут?
«Почему он в Петрограде? Приехал по делам и застрял, вероятно, из-за революции?»
Иван Митрофанович заметил журналиста тогда, когда столкнулся с ним лицом к лицу.
— Каким образом в наших палестинах? — спросил Асикритов после рукопожатия.
— Я хотел как раз просить вашего содействия, — ни секунды не раздумывая, твердо сказал Иван Митрофанович.
Какого содействия — в тот момент он еще не измыслил, но чувствовал, что врать сейчас нужно решительно, без запинок, ничем не выдавая своего смущения от неожиданной встречи.
— Как? Вы меня именно искали? Вы были у меня? — забрасывал вопросами журналист. — Ведь вы в Киеве? Вы для этого приехали? Когда? Вы едете обратно, не правда ли?.. Ну, что вы скажете? Время, — а? Замечательное время! Очистительное время!.. Никого из Карабаевых не видели, — а? Лев Павлович-то — министр, — вот тебе и фунт изюму!
Асикритовская словоохотливость многим помогла Ивану Митрофановичу. Он мгновенно сообразил: можно было уцепиться за любой из поспешных вопросов журналиста и, уже не опасаясь вызвать подозрения, выбрать тему для разговора!
— Я очень рад, что вас встретил, — возвращаясь к асикритовскому дому, говорил Иван Митрофанович. — Вот о Льве Павловиче напомнили… Вообще о некоторых делах… Но, скажите по совести, я не помешаю вам?
— Нет, нет. Вы меня простите, я только с вашего разрешения полежу малость на диване. Понимаете, чертовски устал! Но вообще — пожалуйста, пожалуйста!