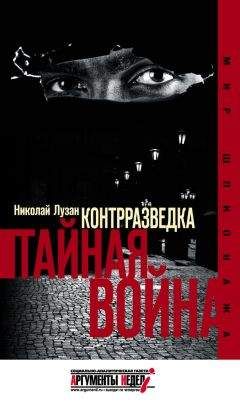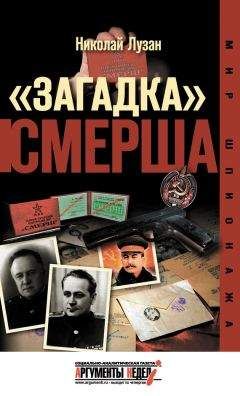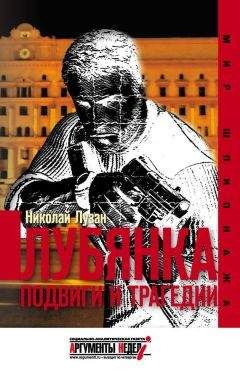Дмитрий Балашов - Дмитрий Донской. Битва за Святую Русь: трилогия
Он продолжал думать о том и на второй день, и на третий — и уже почти ненавидел смолян и опять не понимал, не мог понять, как ни пытался. И все складывалось у него в недоуменный вопрос: "Своих-то зачем?!" Своих, ближних, братьев своих во Христе, даже ежели в бою идут друг против друга, мучать нельзя. Это он знал твердо. И уже в голос бормотал, погоняя и погоняя коня, бормотал, порою переходя в крик, сам себя убеждая:
— На Москве таковое невозможно! У нас этого не будет! Не будет никогда!
И ежели бы ему теперь сказали, что когда-то подобное мучительство своих может прийти и на Московскую Русь, Иван не поверил бы.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ
Киприан удоволенно отложил гусиное перо и отвалился в креслице, полузакрывши глаза. Перевод "Лествицы" Иоанна Синаита был закончен и, кажется (внутреннее чувство редко изменяло ему), выполнен как должно, без излишней тяжести и темноты слога, чем грешат иные переводы с греческого на русский, бедный до сих пор учеными терминами, столь богато представленными в греческом. Творя эту тихую келейную работу, Киприан отодвигал посторонь сложные извивы политических интриг, постоянного лавирования меж русскими и литовскими володетелями, постоянной борьбы с подкупами, ложью и изменой, разъевшей некогда гордый вечный град Константина.
"Близок закат!" — подумал он с остраненною скорбью, и опять мысли перенеслись к далекому упрямому Дмитрию, так и не простившему ему, митрополиту, — как-никак духовному вождю, а не стратилату отнюдь! — давешнего безлепого бегства из обреченной Москвы. (Упрямо продолжал думать, что Москва была обречена и Тохтамыш все равно бы захватил ее.) Отказавшись от его, Киприановой, помощи, Дмитрий обрек себя на излишние трудности, из которых ему не выбраться и поднесь.
В каменное полукруглое окно кельи задувал теплый ласковый ветерок. Был самый конец апреля. Там, в этом сияющем полукружии, царила победоносная весна, все цвело и благоухало юною свежестью. Если выйти сейчас за ворота, обязательно встретишь старика Папандопулоса с осликом, развозящего корзины с живою рыбой. Эконом Студийского монастыря тоже пользуется его услугами. Папандопулос стар и согбен, кожа у него на лице от солнца и времени темно-оливкового цвета, руки в узлах вен и мозолях. Но когда бы и через сколько лет он ни приезжал сюда, всякий раз встречал этого бессмертного старика с его осликом. И казалось порою: пройдут века, рассыплются мраморные виллы, а Папандопулос или такой же, как он, другой старый грек все будет возить свежую рыбу с пристани в таких же вот плетеных корзинах и так же останавливать у ворот, цепляя безменом трепещущие, тяжко дышащие рыбьи тела, и прятать полученные медяки в складки своего рваного, многажды залатанного плаща. Как будто время, властное над всеми прочими, совершенно не властно над ним, до того, что тянуло спросить: не застал ли он еще Гомера или самих аргонавтов, проходивших мимо этих, тогда еще пустынных, берегов за золотым руном?
…И что бы стоило остаться в монастыре, махнуть рукой на все эти дрязги в секретах патриархии! Он вспомнил покойного Дионисия Суздальского и покрутил головой. Ему, приложившему руку к этой смерти, стало пакостно, и теперь, когда соверившееся совершилось, он, Киприан, не чуял к мертвому митрополиту никакого зла, до того, что готов был сочинить энкомий в его честь… Все-таки совершаемое чужими руками можно, при желании, и не приписывать себе! Вот это: рукописание, жития, переводы книг, вот этот его труд останется! Останет и перейдет в грядущие века! А судьба архиепископа Дионисия… Что ж! Мир праху сему! Он, Киприан, не желает ему, в загробной жизни, никоторого горя!
В окно донесся протяжный крик ослика и шум многих голосов. Верно, Папандопулос ввел своего осла во двор обители и сейчас торгуется с экономом… Как бы там ни было, но перевод "Лествицы" был окончен, и следовало просить патриарха и клир отпустить его в Литву: спасать тамошние церкви от уничтожения. Зимой католики начнут крестить литвинов, и надобно добиться, чтобы хотя православных оставили в покое!
В том, что еще не приехавшего Пимена снимут, а его поставят митрополитом на всю Русь, он почти не сомневался, почти… Ежели… Ежели генуэзцы все-таки не настоят на своем! Они теперь уже не хозяева в Вечном городе! И пока хозяевами являются не они, эта пакостная неопределенность все будет тлеть и тлеть, доколе… А что — доколе? Допустит ли его Дмитрий в Москву, даже и после утверждения его кандидатуры патриаршим синклитом? И вся эта грызня и тягостное разномыслие творятся перед лицом уверенных в себе и настырных латинских легатов! Как жаль, что уже нет Филофея Коккина! И этот император, готовый на унию с Римом, готовый на что угодно, лишь бы ему не мешали охотиться за очередною юбкой! Все было плохо тут, в Вечном городе, плохо было и в Вильне, и в Киеве… Православная церковь крепка была только на Москве, но как раз туда его и не пускали!
Надо добиваться, чтобы его отправили в Литву. Обязательно встретиться с княжичем Василием, наследником московского престола, а там… А там все в руце Господней, долженствующей, в конце концов, благословить его, Киприана, на Русскую митрополию!
Нет! Не сможет он остаться рядовым иноком, да даже и настоятелем монастыря… После всего, что было, после этой многолетней изматывающей борьбы за вышнюю власть в Русской церкви! И уступить, как уступили некогда поляки, как уступать начинают кроаты, как уступила нынче Литва (и будут, будут преследовать ненавистных для них схизматиков в великом княжестве Литовском! Будут рушить православные храмы, закрывать монастыри, как это уже происходит в Червонной Руси!). Уступить им, принять католическое крещение, как втайне предлагалось ему, стать, ежели повезет, даже и кардиналом римского папы, он не может. Православие слишком у него в крови, в душе. Он не нужен там, там ему попросту нечего станет делать! Не нужны его переводы греческих книг на славянский язык, понеже богослужение у них идет на латыни, не нужны знания, — его знания! — не нужен исихазм, объявленный наваждением и обманом духа в западной римской церкви… В той самой, что за деньги продает отпущение грехов, замещая уже не святого Петра, Господа самого! За плату! Воистину, с Содомом и Гоморрою сравнились они нечестием своим!
Мстительное чувство как поднялось, так и угасло. Осталось одно: не мешать! Не надобен. "А надобен тем, кои не приемлют мя!" — с горечью прошептал Киприан, совсем закрывая очи, и, мысленными очами, узрел ледоход на великой русской реке: серо-синий лед, с шорохом и гулом ныряющий в синих волнах, рубленые городни с кострами бревенчатых башен над рекою и издали видный над синею водою на зеленом берегу алый крашенинный сарафан горожанки, что с полными ведрами на гнутом коромысле подымается в гору от воды… И красный, радостный колокольный звон, плывущий над водою…
Недавно, глянув в полированное зеркало, увидел Киприан, что уже весь поседел. Посеклись волосы, начала обнажаться, как осина осенью, макушка головы, каштановая некогда борода стала серой… Нет, не должен он ждать здесь Пименова приезда! Чувствует, чует, что не должен! Надо уезжать в Литву! Надобно доказать, что ты по-прежнему надобен, что без тебя неможно обойтись на православной церковной ниве! Иначе вся его жизнь перечеркнута, прожита попусту. Киприан открыл глаза. Осел давно умолк, но все так же слышался за окном оживленный крикливый разговор. Папандопулос все еще продолжал торговаться с прижимистым экономом.
Киприан встал. Взял посох. Надо было снова идти к главному нотарию, потом в секрет хартофилакта, уговаривать синклитиков, льстить патриарху, единовременно угрожая полным отпадением Литвы в латинство… Выходя со двора, он уже совсем оправился, твердо пристукивал посохом, распрямились плечи, и, словом, это был хотя и последний, но тот, прежний, деятельный и властный митрополит русской части Литвы Киприан, которого привыкли видеть и которого, в пору свою, слушались и уважали князья. Подымаясь в гору, он опять узрел — и опять огорчился до зела — несносную башню Христа на той стороне Золотого Рога, в Галате. Подумалось: стали бы русичи терпеть таковое поношение у себя под Москвой? Ой ли! Давно бы уже и взяли Галату приступом, и разметали ихние твердыни… А греки терпят! И что, почитай, вся торговля в Галату перешла, терпят тоже. "Умирающему неможно помочь!" — сурово заключил он про себя, властно ударяя посохом по плитам городской улицы и бегло осеняя крестным знамением кланяющихся ему горожан. Нет, не будет он ждать, когда его, как козла, повлекут на заклание! И он еще станет митрополитом всея Руси!
В секретах патриархии Киприан узнал о приезде из Москвы игумена Федора Симоновского и обрадовался тому неложно, хотя этот приезд и осложнял многое, начиная от задуманного бегства в Литву. С Федором следовало встретиться, не стряпая, чтобы, по крайней мере, выяснить нынешние намерения великого князя Дмитрия.