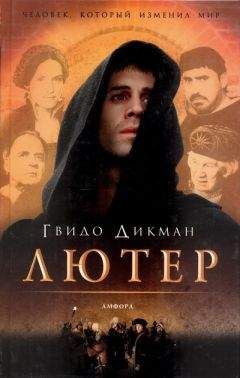Валерий Шумилов - Живой меч или Этюд о Счастье Жизнь и смерть гражданина Сен-Жюста
…Он сразу, чего раньше никогда не делал, пустил коня в галоп.
Сен-Жюст скакал по предрассветной столице. Улицы были пустынны. Прохожих почти не было. Он, правда, заметил, что патрулей стало больше, – в их задачу входило задерживать всех подозрительных, – но национальные гвардейцы, узнавая всадника, спешили посторониться и только долго смотрели ему вслед.
Сен-Жюст нещадно погонял коня. Быстро промелькнули парижские дома, улицы и патрули, и вот он уже мчался по безлюдным аллеям Булонского леса. Он уже ни о чем не думал: ни о заговоре, ни о том, что этот день может стать для него последним, он просто наслаждался скачкой, бьющим в лицо ветром и этими стремительно проносящимися мимо него деревьями.
А потом он заметил Его. Странную фигуру старичка, внезапно оказавшуюся на одной из аллей, в стороне от дорожки, что-то там делавшую с травой.
Неужели это был Он? – от неожиданности Антуан придержал коня, тот всхрапнул, а потом перешел на шаг. Сен-Жюст похолодел. Приспустив поводья, он дал коню проехать еще некоторое время, а потом развернулся и направил его назад шагом.
Конечно, Сен-Жюст понимал, что это не может быть Жан-Жак Руссо, с которым он как будто беседовал незримо тогда на кладбище Блеранкура четыре года тому назад перед самой своей «огненной клятвой»; он понимал, что у него от перенапряжения и бессонницы последних дней сдали нервы, и, наверное, надо было просто поехать вперед, не оглядываясь. Но сдержать себя не мог. Его неудержимо влекло к этому видению.
Антуан спрыгнул с коня. Да, это был точно Жан-Жак. Старичок в овечьей крестьянской шапочке, в старом засаленном камзоле и стоптанных башмаках с пряжками, как две капли воды похожий на Руссо, медленно, но с видимым удовольствием копался среди травы, время от времени поднимая с земли то один, то другой листочек или корешок и внимательно его рассматривая.
Старичок собирал гербарий.
Сен-Жюст не понял, что на него нашло. Видимо, так повлияло случившееся час назад в Комитете. Видение показалось ему явью. Еще не решив для себя, спит он или нет, он шагнул к собиравшему гербарий старичку, схватил его за плечи, приподнял и почти выкрикнул тому в лицо глухим голосом:
– Учитель? Руссо? Ты обманул меня, женевский гражданин! С этим своим «Общественным договором»! С этими своими царствами мира, которые ты обещал и которые невозможно не проиграть. Естественного человека не существует! Это обман! Перманентный плебисцит – это не перманентная гильотина! А я поклялся временем, которого не осталось, и вижу будущее, которого не будет. Почему не было другого пути?… – и Сен-Жюст замолчал. Он вдруг понял, что не спит.
Старичок не испугался. Не делая попыток вырваться, он ласково покачал головой, и выражение его лица было таким незатейливым, что у Сен-Жюста сразу разжались руки и безвольно упали вдоль тела. А тот, кого он на мгновение посчитал за Жан-Жака, тихо произнес:
– Господин, вы принимаете меня за кого-то другого. Я всего лишь прохожий. Одинокий прохожий на вашей дороге. Но мой гербарий будет скоро готов… А ваш?
Сен-Жюст не ответил.
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ
НОЧЬ ТРЕТЬЯ: НА 10 ТЕРМИДОРА.
28 июля 1794 года
Ухватил всадник страшною рукою колдуна и поднял его на воздух. Вмиг умер колдун и открыл после смерти очи. Но уже был мертвец и глядел, как мертвец.
Н. Гоголь. Страшная местьОн стоял и смотрел в дождь [20]. Последние минуты ему начинало казаться, что так будет длиться вечно: и эта черная ночь, убившая, наконец, безумный сон дня; и эта темнота, скрывшая от глаз бурлящие непонятной суетой старинные улицы Парижа; и эта ночная прохлада, пришедшая на смену удушающей атмосфере невыносимо жарких дневных часов; и этот шелестящий дождь, пошедший столь неожиданно, монотонный, успокаивающий, оплакивающий…
Он стоял и смотрел в дождь. Все было кончено, он знал это и хотел сейчас для себя только одного – уснуть. Он не спал уже вторые сутки и теперь на смену прежнему лихорадочному возбуждению утренних часов, когда он в неслыханном напряжении ожидал решающего сражения, пришла полная душевная опустошенность; сжатая пружина расправилась, и он весь обмяк в сознании обреченности, – нет! не собственной обреченности, но краха дела, за которое он боролся, краха своей мечты.
Он стоял и смотрел в дождь. Впервые за много дней повеяло прохладой, но этот крупный летний дождь, которого так ждали парижане, с тоской поглядывая на небо в эти дни невероятно удушливого термидорианского пекла, пришел так некстати, – разразился в те самые часы, когда решалась судьба Первой Республики. И он довершил то, что не доделала Ночь, бросившая в объятия сна, несмотря на неумолчный набат, большинство городских домов: дождь прогнал с мостовых любопытных, очистил улицы от сочувствующих, охладил горячие головы сторонников.
Словно само Верховное существо решило вмешаться в схватку между Порядком и Утопией, бросив на чашу колеблющихся весов силу своих стихий. И теперь Небо плакало – мощные струи воды поливали косые черепичные крыши, запыленные фасады домов, грязные булыжники мостовых. Казалось, оно оплакивает саму Великую Революцию, вспыхнувшую во имя мечты о привнесении идей Небесного Царства на землю, мечты, которая руками ее творцов рухнула в кровавую пропасть фракционной борьбы за власть и за право повелевать другими людьми на долгом пути к этому неосуществившемуся Царству…
Он стоял у распахнутого окна второго этажа и смотрел сквозь тугие струи дождя на обширную площадь перед Ратушей и видел в свете ярко иллюминированного фасада и многочисленных факелов: отдельные кучки национальных гвардейцев, собравшихся у нескольких огромных костров, которые тщетно силился погасить не перестававший ливень; десятки пушек, направленных на примыкающие к площади улицы; выстроившиеся рядами тщательно сложенные в рогатки ружья; баррикады, которые начали было возводить, а теперь бросили. И подобно тому, как залпы картечи пробивают живые просеки в колоннах наступающего врага, так и дождь сначала пробил бреши в рядах защитников Ратуши, а затем произвел и полное опустошение: он видел, как национальные гвардейцы уходили со своих постов сначала по одному, а потом стали разбегаться и группами. Площадь пустела…
А он просто стоял и смотрел в дождь.
Сен-Жюст помнил, как совсем недавно, около полуночи, он с освобожденным вместе с ним из тюрьмы в Экоссе председателем Революционного трибунала Дюма прибыл к парижскому муниципалитету, сопровождаемый чиновниками Коммуны; как молча и неторопливо он прошел сквозь ряды национальных гвардейцев и канониров, охранявших подступы к площади и сам вход в Ратушу; и как еще тогда он как-то отстраненно подумал, что как их мало, этих последних защитников низвергнутой Республики Робеспьера, – куда подевались стотысячные толпы первых революционных лет! – теперь на площади находилось в тридцать-сорок раз меньше людей, чем в памятные всем дни
14 июля, 10 августа или даже 2 июня, – не более трех-четырех тысяч человек. Набат не смог собрать больше, и это означало, что, как он и предполагал, «заледеневшая» Революция уже не способна была спасти самое себя и их неудача определилась еще до их выступления.
Дождя еще не было, но ночное небо было совсем темным, – с вечера собирались большие грозовые тучи. Тогда еще никто не думал, что как некстати этот дождь, – никто не предполагал, что поднявшийся на защиту свободы народ способен разбежаться по домам из боязни промокнуть под дождем, от каких-то жалких струй воды, льющейся
с неба, – такого просто не могло быть…
Он поднялся по широкой роскошной лестнице и вступил в Генеральный зал заседаний, огромный, помпезный, монументальный, не в меру украшенный всевозможной республиканской символикой, словом, парадный фасад революционного Парижа. Его встретили радостными криками, почти овацией. Зал был переполнен. Сен-Жюст с легким удивлением отметил, что народу здесь было очень много, казалось, даже едва ли не столько же, сколько на площади. 572 члена Генерального совета Коммуны, присяжные Революционного трибунала, чиновники, какие-то военные, санкюлоты в красных колпаках – все были здесь. Это множество возбужденных лиц, мелькающее то тут, то там оружие, оживленный говор уверенных в успехе людей, не раз споривших с «законной властью», производили впечатление даже большее, чем недавно бесновавшийся Конвент. Мелькнула надежда на победу. Мелькнула и пропала… Он прогнал ее прочь. Прогнал, потому что уже не хотел ни верить, ни надеяться… Да и так ли уж нужна была ему и Робеспьеру победа? Потеря веры в людей вообще (а не только в их добродетели!) делала бессмысленной саму победу…
У входа в зал совещаний к Сен-Жюсту с радостным криком бросился Леба. Он был готов обнять своего друга, но не решился сделать этого, – лицо Антуана было белым и мертвым, всегда бесстрастный, сейчас он просто напоминал заведенный механизм, – и поэтому Леба только крепко по-римски сжал ему руку.