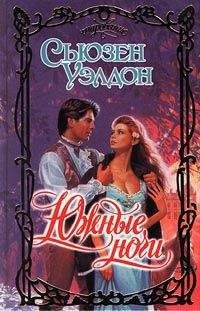Андре Мальро - Завоеватели
Когда я спускаюсь на второй этаж, с ночной улицы через окна доносится шум голосов и позвякивание винтовок. У машин в треугольном свете фар снуют чёрные тени кадетов с вертикальными блестящими полосками — винтовками. Батальон Чан Кайши уже здесь. Ничего нельзя различить, кроме пучков света от фар, но чувствуется, что внизу темнота оживлена беспокойным движением большой массы людей, которым хочется говорить громко, как всегда бывает после боя.
Гарин, сидя за столом, ест продолговатый обжаренный хлебец, хрустящий у него на зубах, и разговаривает с генералом Галленом, который ходит по комнате взад-вперёд.
— Полную картину я ещё не могу дать. Но, судя по некоторым полученным донесениям, можно утверждать следующее: повсюду остались островки сопротивления; в городе сохраняется возможность нового выступления, подобного тому, что предпринял Тан.
— Тан схвачен?
— Нет.
— Убит?
— Ещё не знаю. Но дело не в Тане: сегодня он, завтра другой. Английские деньги по-прежнему здесь, и деньги китайских банкиров также. Или мы с этим боремся, или нет. Однако…
Он поднимается, сдунув со стола крошки хлеба и стряхнув их с одежды; идёт к сейфу и достаёт оттуда листовку, которую протягивает Галлену.
— Вот что самое главное.
— Ого! Старая гадина!
— Нет. Он, конечно, не знает о существовании этих листовок.
Я смотрю через плечо Галлена: в листовке объявляется о создании нового правительства, главой которого будто бы предложено стать Чень Даю.
— Они знают, что его можно нам противопоставить. Как бы мы ни старались, он сохраняет своё влияние.
— Давно ты получил эту листовку?
— Час назад.
— Его влияние… Да, он стоит против нас. Ты не находишь, что это продолжается слишком долго?
Гарин, поразмыслив, говорит:
— Это нелегко…
— Тем более, что я перестал доверять Гону… Он лезет не в свои дела и сам решает, кого прикончить, а среди них есть люди, которым партия многим обязана…
— Найди ему замену.
— Тут стоит подумать: малый очень толковый, да и момент сейчас неудачный. А кроме того, если он будет не с ними, то окажется против нас.
— Так что же?
— Без нас он долго не продержится, все террористы слишком неосторожны и никогда не могут сами сорганизоваться… но ещё на несколько дней…
На следующий день
«Ну, конечно!» — говорит Гарин, войдя сегодня утром в свой кабинет и увидев высокие стопки донесений. «После всяких историй всегда так…» И мы вновь принимаемся за работу. Во всех этих донесениях, таких смирных в наших руках, видны следы бешеной деятельности. Страсти и желания вчерашнего и позавчерашнего дня, жестокие приказы людей, о которых я знаю только то, что они либо убиты, либо скрываются. И надежды других людей, желающих завтра сделать то, что не удалось Тану.
Гарин работает молча, подбирая все документы — их много, — которые касаются Чень Дая. Иногда, откладывая бумагу или помечая её красным карандашом, он только произносит вполголоса: «Опять». Вокруг этого старика группируются все наши враги. Тан, полагавший, что сможет быстро прорваться через мосты и завладеть оружием, собранным в комиссариате пропаганды, хотел сделать его главой нового правительства. Все те, кто боится или не хочет действовать, все, кто способен только ныть и жаловаться, кто крутится вокруг вождей тайных политических обществ, все старики, которые когда-то помогали Чень Даю, — все они образуют массу, сформировавшуюся только благодаря личности Чень Дая и без него невозможную…
А вот донесения из Гонконга: Тан сумел добраться до города. Англия, знающая, сколь невелики средства у комиссариата пропаганды, вновь принимается за своё. Теперь я понимаю, и, может быть, даже лучше, чем когда был в самом Гонконге, что представляет собой этот новый вид войны, где пушки заменяются лозунгами, где побеждённый город обрекается не на огонь, а на великую тишину азиатских забастовок, на тревожную пустоту обезлюдевших улиц, на которых пугливо исчезает одинокая тень под глухой стук деревянных башмаков… Победа является не из сражения, но из этих диаграмм, из этих донесений, из сообщений о снижении цен на дома, из мольбы о субсидиях, из растущего количества пустых табличек, сменяющих мало-помалу на дверях гонконгских небоскрёбов названия фирм и компаний… Но готовится и ещё одна война, в старом стиле: армию Чень Тьюмина обучают английские офицеры.
«Денег, денег, денег, — молят все донесения. — Нам придётся прекратить выплату пособий по безработице…» И Гарин, вглядываясь в каждое из них, нервно чертит заглавную букву Д — декрет. Многие из кантонских фирм, которые когда-то предлагали значительные средства Бородину и которым декрет принесёт неминуемое разорение, теперь повернулись к друзьям Чень Дая… Около одиннадцати Гарин уходит.
— Совершенно необходимо пустить в дело этот декрет. Если придёт Галлен, скажешь ему, что я у Чень Дая.
Затем я работаю с Николаевым. Глава комитета безопасности, в прошлом — агент охранки. С его досье Бородин ознакомился уже в настоящее время в Чека. Войдя в террористические организации в довоенные годы, Николаев способствовал аресту многих активистов. Он был прекрасным осведомителем, поскольку к его собственным сведениями добавлялась ещё информация его жены, надёжной и уважаемой в своем кругу террористки, которая умерла весьма странным образом. Из-за стечения обстоятельств Николаев утратил доверие товарищей, однако у них не возникло достаточно твёрдого убеждения в необходимости расправы. Вследствие этого охранка сочла, что он разоблачён, и больше не платила ему. Николаев был не способен работать. Он жил в постоянной нищете, нанимался проводником, продавцом порнографических открыток… Он регулярно обращался с просьбами о помощи в полицию, откуда ему — для поддержания — высылали кое-какие деньги. Он жил, испытывая к себе отвращение, плыл по течению, но тем не менее чувствовал, что с полицией его связывает некий общий корпоративный дух. В 1914 году, попросив 50 рублей — это была его последняя просьба, — он донёс, словно желая расплатиться, на свою соседку. Это была старая женщина, прятавшая оружие…
Война стала для него избавлением. Он ушёл с фронта в 1917 году, оказался в конце концов во Владивостоке, затем в Тяньцзине, где в качестве мойщика посуды нанялся на судно, отправлявшееся в Кантон. Там он вновь принялся за своё старое ремесло осведомителя, проявив при этом столько ловкости, что Сунь Ятсен доверил ему четыре года спустя один из важнейших постов своей секретной полиции. Русские, по-видимому, забыли о его прежней профессии.
Пока я привожу в порядок почту из Гонконга, Николаев изучает результаты недавно подавленного восстания. «Так вот, понимаешь, дорогой, я выбираю самую большую комнату. Большую, очень большую. Ну и сажусь в полном одиночестве в кресло председателя на возвышении. В полном одиночестве, понимаешь? Только секретарь сидит в углу, да позади меня ещё шесть красногвардейцев. Понимают они только местный диалект, но, конечно, в руках — револьверы. Когда обвиняемый входит, он щёлкает каблуками (как говорит твой друг Гарин, бывают храбрые люди), но, когда выходит, этого уже не слышно. Если бы присутствовали люди, публика, я бы никогда ничего не добился. Обвиняемые давали бы отпор. Но когда мы в полном одиночестве… Ты понимаешь — в полном одиночестве…» И с блуждающей улыбкой толстого старика, возбуждённо созерцающего обнажённую девочку, Николаев добавляет, прищурив глаза: «Если бы ты знал, как они слабеют…»
* * *
Когда я возвращаюсь обедать, Гарин пишет.
— Минуту, я почти кончил. Я должен записать сразу, иначе могу забыть. Это касается моего визита к Чень Даю.
Через несколько минут я слышу звук, какой бывает, когда пером проводят черту. Гарин отодвигает бумаги.
— Кажется, его последний дом продан. Он живёт у бедного фотографа, поэтому, конечно, он тогда и захотел прийти ко мне сам. Меня вводят в мастерскую — маленькую тёмную комнату. Чень Дай пододвигает мне кресло и садится на диван. Где-то во дворе продавец фонарей бьёт молотком по жести, поэтому мы разговариваем очень громко. Впрочем, тебе следует просто прочесть…
Он протягивает мне бумаги.
— Начинай со слов: однако несомненно… Ч. Д. — это он, Г. — конечно, я. Или нет, лучше я прочту сам. Ты можешь не понять того, что даётся в сокращении.
Он наклоняет голову, но прежде, чем начать читать, добавляет:
— Я избавлю тебя от бесполезной болтовни, которая идёт в начале. Как обычно, сановной и изысканной. Когда я загнал его в угол своим вопросом — будет ли он голосовать за декрет или нет, — он сказал:
— Господин Гарин (Гарин почти имитирует слабый, размеренный голос старика и свойственные ему несколько поучающие интонации), не разрешите ли вы задать вам кое-какие вопросы. Я знаю, что это не принято…