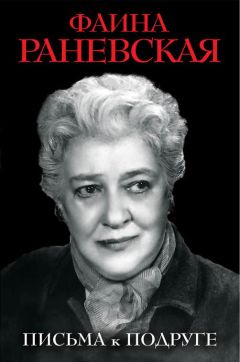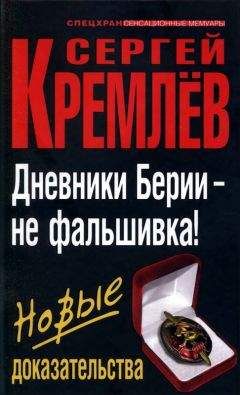Фаина Баазова - ПРОКАЖЕННЫЕ
Мы шагаем молча. А-и очень привязан к нашей семье. Он преклонялся перед отцом и восторгался Меером. Нас связывала крепкая дружба с детства.
Мы вместе поступали в университет и все студенческие годы занимались вместе у нас дома.
Под влиянием отца и всей атмосферы нашего дом он увлекся историей еврейского народа и знал ее лучше, чем многие евреи и сионисты.
Он любил и ценил книги и вечно пропадал у букинистов, где часто находил редчайшие сокровища которые с гордостью приносил мне.
Больше жизни он любил свою родную Грузию, е старину, ее культуру, а людей он любил и уважал – или презирал – в зависимости от того, кто как относился к собственному народу. Это был для него единственный критерий оценки человеческого достоинства, и тут он становился беспощаден и неуступчив. В его глазах были ничтожествами любые знаменитости и таланты, если они не являлись в первую очередь бескорыстными служителями и бескорыстными слугами родной культуры, своего народа. На редкость образованный, одаренный и исключительно трудолюбивый он отличался беспримерной честностью и добросовестностью.
Неизвестно, какие его качества привлекли внимание кого-то из влиятельных лиц в вышестоящих органах, но сразу же по окончании университета, в 1932 году, за ним начали "охоту", предлагая ему блестящую карьеру. Он очень страдал от такого внимания и решил уехать на время из Грузии, чтобы избавиться от этих предложений. Устроился юрисконсультом в одном крупном тресте на Украине, где проработал несколько лет.
В те годы отцу часто приходилось бывать в Киеве, и А-и не упускал случая встретиться с ним там. Когда А-и приезжал в Тбилиси в отпуск, он с восторгом рассказывал мне, как они с отцом по вечерам гуляли по киевским бульварам, как жадно он ловил его высказывания и как, бывало, знакомил отца с кем-либо из своих новых друзей из среды старых еврейских деятелей – через пять минут те переходили на еврейский язык и… забывали о его существовании.
Свои рассказы А-и неизменно заканчивал словами:
– Ты представить себе не можешь, какой у вас отец! Я часто думаю, с какой планеты он явился!
Теперь А-и идет молча и ничего про отца не говорит, наверное, вспоминает прогулки с отцом по киевским бульварам.
Недалеко от нашего дома мы остановились.
– Постарайся поспать немного. Предстоит большая и, быть может, длительная борьба, – и уходит.
Мама лежит в кровати. Возле нее суетятся две соседки-еврейки и Полина. Мама не плачет, не кричит. Молча бьется в сильной лихорадке. Когда я подошла к ней, она схватила меня за руки и неузнаваемым голосом произнесла: "Спасай папу".
Утопленники хватаются за соломинку, все кричат мне: "Спасай папу!" Мы все тонем, мы все соломинки.
Даем маме сильное снотворное, и скоро она погружается в сон. Полина, не раздеваясь, ложится у ее ног.
Бабушке сказали, что суд отложили, она сидит и ждет, что мы сядем за стол. Она приготовила в маленькой комнате все для седера. На столе горят две высокие свечи, лежат по порядку, как положено, маца, марор, вино, крутые яйца, хоросет. Она еще раз с удивлением спрашивает, почему мы не идем садиться за стол…
– Бабушка, – прошу я, – мама нездорова, я устала, иди сама.
Я знаю, что с позавчерашнего вечера она ничего не брала в рот. Этот пост – "нишмара" – она держала раньше только в дни "слихот": в течение 40 дней до Йом-Киппур, два раза по два дня подряд в неделю, постилась. Несмотря на старания отца уговорить ее отказаться от "голодовки" (как говорили мы), она продолжала свое. А после ареста отца установила себе этот пост "до прихода Давида". И вот пошел девятый месяц, как она постится 4 дня в неделю, а Давид вместо дома отправился в камеру смертников.
Кто скажет ей об этом?
Она ни на что не жалуется. Все принимает от НЕГО как благо, за все благодарит ЕГО. Она садится одна за стол и "ломает" пост, произносит киддуш и медленно читает Хагаду…
Меня сильно знобит, и, закутавшись в свою шубку, я сижу в кресле. В квартире никто не зажег света. Через открытую дверь я вижу, как девяностолетняя бабушка, при свете свечей, одна, справляет седер. У нее большое потомство – дети, внуки, правнуки и праправнуки… Но никто, никто не пришел сегодня в наш дом, чтобы не омрачить себе праздник Песах.
Или страх, страх гонит всех евреев подальше от нашего прокаженного дома?
Свечи медленно догорают. Бабушка проглатывает кусочки пищи вместе со скупыми слезами… Иногда из спальни доносится глубокий стон мамы, отдельные слова – она зовет Герцеля, что-то говорит Давиду на идише, потом снова затихает.
Слегка раскачиваясь, бабушка продолжает читать Хагаду. Монотонное чтение постепенно расслабляет мое сознание… Будто сквозь сон, перед глазами возникает другой седер: большой и длинный стол за которым сидят человек около тридцати… пятнадцать членов семьи, остальные – гости. Во главе стола сияющий отец, справа от него – Герцель, Хаим, Меер. слева – почетные гости и среди них любимый всеми Сайд Давдариани (бабушка его называла "цадик-гой"), жена его, Анна Иосифовна, – еврейка и свою очень набожную мать, глубокую старушку, на праздники всегда приводит к нам. Рядом с Саидом сидит обожающий его Яша Штакельберг – ярый троцкист. В начале тридцатых годов его выслали в Тбилиси с Украины за его политические убеждения. Кто-то из старых социал-демократов Украины дал ему письмо к Сайду, который до революции долго жил и работал на Украине, где его считали совестью социал-демократической партии. Сайд привел его в наш дом, где никто его троцкистских взглядов не разделял, но как бездомного и одинокого еврея принимали тепло и заботливо. Штакельберг очень образован и эрудирован. Худой, среднего роста, с черной, непокорной шевелюрой, он всегда был весел и любил острить. Он терпеть не мог читать советские газеты и печатавшиеся в них отчеты о процессах называл "баснями Крыленко". Он знал и ждал, что его возьмут, и, смеясь, уверял, что ночью не запирает двери. И действительно, в одну ночь пришли те, кого он ждал и для кого у него "дверь всегда была открыта", и с тех пор он исчез, канул в неизвестность. Никто не знал, есть ли у него родные и где они… Погасла одна свеча… путаются мысли… путаются видения… Старушка, читающая одиноко Хагаду при слабом мерцании одинокой свечи, кажется нереальной, и не она, а младший из братьев – Меер читает "Ма ништана". Продолжает отец, и потом по очереди другие. Я слышу звонкий смех Герцеля, он вольно комментирует некоторые места "Легенд", его поддерживает Хаим, веселье и смех несколько отвлекают отца от чтения, и он хочет призвать нас к "порядку"[2], но нам еще веселее оттого, что он не умеет сердиться на нас.
Из всех праздников мама особенно любила Песах. Все в доме блестело и выглядело торжественно. На столе пасхальная посуда и высокие серебряные бокалы. Мама владела своим секретом кухни, в которой искусно комбинировала еврейские и грузинские блюда. Кто-то в ожидании фаршированной рыбы и нежнейших маминых кнейдлах пытается "сократить" текст Хагады, но строго следящий за ходом трапезы отец сразу разоблачает нетерпеливого, который под общий хохот начинает читать пропущенное сначала.
Вот закончилась церемониальная часть Хагады. Льется ароматное кошерное кахетинское вино, и гости состязаются в остроумных тостах… Когда к концу ужина подается огромная румяная индюшка, все смотрят на нее с грустью… никто не в силах дотронуться. А уж настоящей пыткой кажется съесть в конце ужина кусочек афикомана. Но тут обнаруживаются некоторые неполадки. Завернутый в салфетку афикоман отец дал спрятать взбалмошной трехлетней Лиле, дочери Хаима, которая в ответ на просьбу возвратить афикоман, ставит невыполнимые условия. Ее ангельски-красивое личико выражает торжество победы, а глаза лукаво смеются.
Каждого, кто пытается уговорить ее вернуть афикоман, она коварно царапает. После долгих переговоров только дедушке удается уговорить ее смягчить условия. И она указывает место. Каким-то образом она умудрилась салфетку с афикоманом закинуть за огромный шкаф так, что он застрял между стеной и шкафом и достать его оттуда, не отодвигая шкафа, было невозможно.
Под общий смех и веселье молодые люди начинали отодвигать огромный и очень тяжелый шкаф. Полученный после таких усилий кусочек афикомана всем казался очень вкусным. А Лиля продолжала заливаться звонким смехом…
– "Ле шана ха-баа б'Ирушалаим", – отодвигая стул, громко произносит старушка и идет спать… Погасла и вторая свеча… В квартире воцарились темнота и тишина.
…Меня охватывают всеобъемлющая чернота и страх, кто-то во мне стонет, потом, рыдая, ведет меня куда-то, во все черное. Постепенно вижу контуры этого черного… да, это камера, там глухо, темно, ни свет, ни звук туда не проникают. У дверей стоит кто-то, весь в черном, и лицо покрыто черным. Он застыл в ожидании мгновения, когда легким стуком в дверь он возвестит о своем приходе.