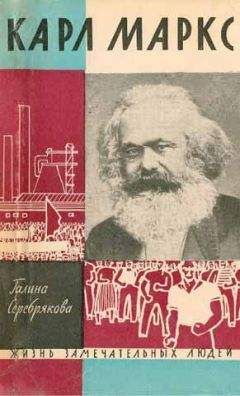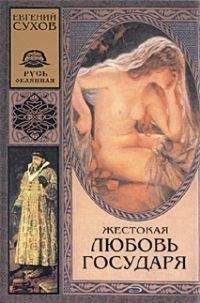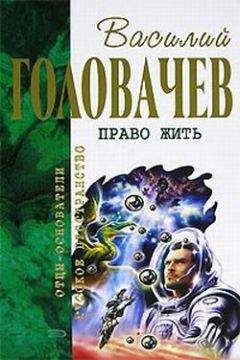Галина Серебрякова - Юность Маркса
— Здесь, — говорит Карл дяде, — жили наши предки, трирские раввины. Бабушка не раз гуляла с нами, детьми, но гетто. Дед, Маркс Леви, когда получил раввинское звание, жил недалеко от Глоккенштрассе. Впрочем, судя по рассказам тетушки Эстер — она живет во Франкфурте-на-Майне, — в трирском гетто давно исчезли нравы еврейских улиц тех городов, где господствует не французское, а прусское уложение.
— Это верно, — подтвердил Генрих, — там все еще живо средневековье. На ночь запираются ворота, и вне гетто евреям запрещено ходить по тротуарам, чтоб не осквернить своим прикосновением христиан. Все это не касается господ Ротшильдов, которые давно предпочли принять приглашение европейских королей… — и Генрих не досказал, взглянув на противоположный тротуар.
Опираясь на суковатую трость, там стоял Виттенбах, закинув голову и прикрывая цилиндром глаза. Трирский историк созерцал небо. Улица была узка, дома высоки, — директору гимназии не легко было вывести заключение относительно погоды.
— Горизонт ясен, но облака ползут с востока, следовательно, надо ждать грозы не позднее полудня, — объявил он, очнувшись и разглядев Марксов.
Ему представили господина Пресборка.
— Карл, мой друг, — сказал юноше старик Виттенбах, — покажи путешественнику Porta Nigra. Эти Черные ворота, как ты знаешь, назывались раньше Марсовыми и защищали с севера римский город Трир.
Директор гимназии собирался повернуть к Главному рынку, где в воскресные утра прогуливалась добрая половина городского населения, но юстиции советник в учтивейших выражениях попросил его показать чужеземцу достопримечательности города.
Местный летописец сдался. Трир и его история составляли главный интерес в жизни старика. Виттенбах повел почтительно внимавшую ему компанию к Porta Nigra. Полуразрушенные башни, как две неровные скалы, соединялись массивным переходом, образующим двойные ворота.
Иоганн Пресборк не нашел в памятнике римского господства ничего особо привлекательного. Проводник Гёте посмотрел на него с состраданием и не удостоил ответа.
— Трир бесконечно стар, — сказал директор гимназии, демонстративно повернувшись к Марксам. — Существует легенда о том, что он старше Рима на целую тысячу лет. На знаменитом Красном доме, что около Дитрихштрассе, построенном в 1664 году, есть надпись, плод этой легенды. Карл, повтори надпись, ты отвечал ее мне на уроке зимой прошедшего года.
— «Ante Romam Treveris stetit annis mille trecentis, Perstet et aeterna расе fruatur. Amen!» — сказал Карл, морщась. Превращение прогулки в экзамен раздражило его. — «До Рима Трир стоял тысячу триста лет. Да существует он впредь и наслаждается вечным миром. Аминь!» — перевел он дяде, не знавшему латыни.
— Прекрасно сказано: «Да существует он впредь и наслаждается вечным миром», — повторил Виттенбах. — Два тысячелетия стоит город, созданный до нашей эры и названный Colonia Augusta Treverorum, — продолжал старик. — Ноги потомков касаются следов далеких предков. Два тысячелетия прошло и пройдет, мы умрем, а Трир все будет жить. Я говорил господину Гёте более сорока лет тому назад то же, что говорю вам сейчас. И вот нет господина Гёте, не будет меня, не станет даже маленького Карла, но века не сокрушат старой развалины Porta Nigra. Знаете ли вы, господин голландец, что в четвертом веке эта тихая обитель стала резиденцией римского императора и по роскоши не уступала Вечному городу? Кёльн был в три раза меньше Трира… Какие силы движут историю? Свидетелем каких событий станет еще наш вольный Рейн?.. Кто прославит старый Трир?.. — Виттенбах погрузился в раздумье.
— Неужели больше Кёльна? — продолжал удивляться Пресборк.
Генрих Маркс уже досадовал на себя, предвидя утомительное старческое многословие.
Трирский историк привел спутников к громоздким развалинам некогда огромных римских терм.
Цепкие травы и нежный шиповник проросли в груде камней.
Дядя Пресборк осторожно присел на плоский камень и решил противопоставить богатым летописям Трира исторические заслуги родного Нимвегена.
— Мы тоже не бедны старым хламом, — сказал он важно. — Родной город твоей матери, Карл, а моей сестры построен, говорят, Юлием Цезарем. Впрочем, я не охотник до старины и всякой ветоши. Деловой человек теперь едва успевает идти вровень со своим веком. Нас, голландских купцов, сейчас больше занимает вопрос о том, как скорее кончить споры с Бельгией. Пусть себе отделяется от нас, но покупает голландские товары.
Внезапно откуда-то на римские термы полил дождь.
Истые трирцы защитились зонтами и поспешили найти убежище под сводами античных бань. Не прошло и двух минут, как солнце скрылось и раздались раскаты грома. Заметались молнии, откуда-то налетел теплый ветер.
Стемнело.
— Виттенбах на этот раз угадал замыслы погоды, — рассмеялся Генрих Маркс.
Зонт вырвался из рук юстиции советника и вприпрыжку поскакал по лужам. Карл бросился спасать его. Вода струилась по камням, омывая потрескавшуюся мозаику. Деревья роняли свежие листья на старые плиты.
— Нам остается, подобно древним, совершить омовение: бассейны полны влаги, — продолжал юстиции советник, прилаживая непослушный зонт в углубление между камнями.
Небо продолжало окатывать знойную почву лютым потоком воды.
К словам природы будь не глух,
И ты узнаешь ход светил,
И дух твой будет полон сил… —
начал Виттенбах, приведя в полное отчаяние Карла.
Притворившись, что не слышит директора гимназии, Карл решился на хитрость.
— В девятом веке, — начал он громко и быстро, — норманны нагрянули на Трир и жестоко расправились с жителями. После разгрома город превратился в ничтожную горную деревушку. Руины, пепелища, кладбища служили горьким напоминанием о сломленном могуществе.
— Мой друг, — вмешался Виттенбах, мгновенно позабыв «Фауста». — Упадок всегда чередуется с расцветом.
Иоганну Пресборку пришлось выслушать, как могущественные епископы возродили город, превратив его в место религиозного паломничества и торговли.
Город аккуратно отдавай дань сменявшимся векам.
Расположенный между Францией и немецкими княжествами, Трир неоднократно менял властителей. Во время Тридцатилетней войны его жители, по воле своего князя, сражались то на стороне Франции, то Испании, то Германии.
— Остальное, истинно важное с исторической точки зрения, — говорит Виттенбах, высовывая голову из-под свода, чтобы проверить, не стихла ли гроза, — относится к поре, когда в Трир пришли французы.
— Отлично помню августовский день 1794 года, — отвечает ему Генрих Маркс. — Мне было двенадцать лет. Вместе с мальчишками квартала я побежал к реке, чтобы видеть подступающие войска неприятеля. Путь им был открыт. Французы шли, распевая «Марсельезу». Барабанщики отчаянно громыхали в такт песне. Наши горожане ждали демонов либо ангелов, но пришли добродушные крестьяне в солдатских мундирах, весьма похожие на мозельских виноградарей.
— Великие дни! — вздыхает Виттенбах. — Когда господин фон Гёте был в Трире, я имел мужество защищать перед ним франков и их революцию. Якобинцы были отважные люди, но Робеспьер завел их слишком далеко… Французские войска вступили в наш город всего через каких-нибудь две недели после Термидора.
Карл вмешивается в разговор:
— Жирондисты умели критиковать Гору, но никогда, насколько я знаю, не противопоставляли ей своего плана.
— Птенцам рано судить орлов. У тебя есть еще время разобраться в этом и уж тогда изрекать свои суждения, — сурово отвечал Виттенбах.
Так же неожиданно, как и начался, дождь прекратился. Усталое, вспухшее небо опоясывает радуга. Быстро сохнут угрюмые лужи. Песок, как губка, впитывает влагу. Весело распевают птицы. Старый Трир, оглушенный грозой, отряхивается и шумит.
Шлепая по мокрой земле, Генрих, Иоганн и Карл направляются домой. Виттенбах размеренно шагает сбоку.
На перекрестке юстиции советник берет под руку директора гимназии и замедляет шаг, чтобы несколько отстать от сына и Пресборка.
— Скажите мне, каковы успехи мальчика в школе? — напряженно спрашивает отец.
— Во-первых, ужасный почерк: учитель древних языков непрестанно жалуется на его каракули. Во-вторых, я заметил у Карла весьма ошибочное и пагубное пристрастие к перегруженности мысли и особой изысканности языка. Не думаю, чтоб средний годовой балл был у него выше тройки.
Виттенбах покидает юстиции советника и скрывается за дверью винной лавки. Пересохшее горло историка жаждет мозельского вина.
На Симеонсштрассе, недалеко от собора, Марксы замечают Эдуарда Монтиньи. Он в раздумье ищет способ перейти улицу, не замочив узких туфель с пряжками. Букинист переминается с ноги на ногу. Он больше чем когда бы то ни было похож на аиста. Хвостами его светлого камзола играет ветер. Карл учтиво окликает бывшего учителя. Высоко закидывая обтянутые узкими темными брюками ноги, Монтиньи бросается к друзьям. Он в большом возбуждении и забывает поэтому задавать вопросы и отвечать на них.