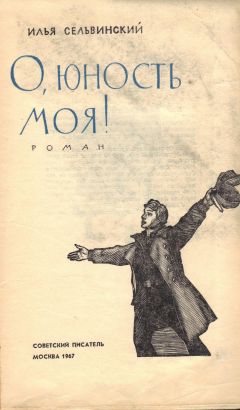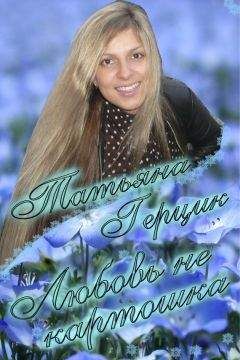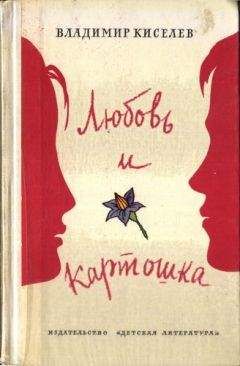Илья Сельвинский - О, юность моя!
Никогда еще Леська не был так близок с девушкой.Он впервые понял, что такое женщина в жизни мужчины. Особенно ярко он почувствовал это потому, что еще совсем недавно был так несчастлив. Говорят, будто горе проходит, когда пьешь водку. Но Елисей как-то раз выпил — ничего такого не почувствовал. Совсем другое — женщина. Так вот в чем ее тайна!
В Мелитополь прибыли воскресным утром. По городу уже висели афиши с объявлением о дневном концерте. Первым вышел пианист из оркестра и сыграл «Музыкальный момент» Шуберта и «Колыбельную» Грига. В зале сидели красногвардейцы с красными бантами на груди и обмотками на ногах. Театр не топили, поэтому публика куталась в шинели и дымила цигарками. Но слушали хорошо.
Потом выпустили Елисея. Он не успел выучить Блока наизусть и читал «Двенадцать» по бумажке. Читал плохо, волновался, глотая слова. Но и ему похлопали.
Потом Вера Веснина протанцевала «Лебедя» Сен-Санса. Леське понравился ее номер, но кто-то из публики крикнул: «Но это же умирающий гусь!»
Затем играл на гуслях Вадим Агренев-Славянский. Он пел гнусаво, как попик на амвоне, гусли, незнакомые зрителям, звенели как-то странно, будто даже фальшиво, поэтому Вадим не понравился.
— Хамы! — говорил он за кулисами. — Былины, изволите видеть, им не нравятся!
В заключение концерта вышли цыгане. Они запели таборные песни, грустные, шалые, удалые, где русские слова приобретали какой-то диковинный акцент, что придавало им особый пошиб.
Эх, распашол так дум мой сивый конь пошел.
Эх, распашол так дум хорошая моя.
Вылетела Настя, тоненькая, как дымок. Все в ней и на ней заплясало. Плечи трепетно дрожали, точно в ознобе, маленькое жемчужное ожерелье, красные каменные бусы, большое деревянное монисто, серьги, ленты, запястья — все это звенело, пело, увлекало. А она, опустив черные ресницы, чуть-чуть улыбалась уголками губ, подвитых кверху, точно раковины.
Чем-то неуловимым она напоминала Гульнару, хотя совсем-совсем не была похожа. В Гульнаре нет этой демонической серы, перцу этого.
Настя плясала. Пляска девушки шла внутри хоровой песни как соло. Тело ее было таким танцевальным! Казалось, это большая гибкая, удивительно пластичная рыба, что-то вроде стерляди, трепещет в хрустальной струе, блистая своей кольчугой и почти не двигая плавниками.
Но Гульнара... С Гульнарой никто не сравнится. Она не пляшет, и хотя много воображает о своем пении, но поет она «белым звуком», лишенным тембра. Бог с ними, с ее талантами. Она сама талант. Сама вся как она есть. Талант!
Вечером давали оперетку «Граф Люксембург». Имя Бредихина стояло в программках. Он должен был произнести: «Она здесь!» Кроме того, он участвовал в хоре и распевал:
Отличный были вы танцор,
Скажу я вам без лести,
Наверно, в день вы пуда два
Съедали женской чести.
Дебют молодого актера прошел, однако, незамеченным.
Антрепренер очень привязался к Леське. Вскоре старик уже не мог без него обойтись. Актеры в шутку называли Бредихина «адъютант генерала Бельского», но, впрочем, относились к нему неплохо. Жена Бельского, Ольга Львовна, тоже благоволила к юноше:
— Очень милый мальчик. Всегда улыбается.
Жалованье Леське дали маленькое, меньше, чем положено рабочим сцены, но зато Леська жил у Бельских на всем готовом и спал в столовой на диване, ничего не платя за квартиру.
Леська еще никогда не пользовался таким комфортом: здесь не пахло прелым дубовым листом, распаренными досками, затхлыми от сырости углами. Напротив, Ольга Львовна так часто обтиралась на кухне душистой эссенцией, что аромата хватало на весь дом.
По утрам Леська шел на базар покупать для Бельских завтрак. Обедали все трое в ресторане, ужинали там же. Бельский сам любил покушать, но следил за тем, чтобы хорошо питался и Леська.
— Он еще растет, — говорил старик. — Ему нужно побольше топлива.
Между делом учили Елисея культурно есть. Леська, например, за едой чавкал. Так едят хамы. Тогда он стал есть абсолютно беззвучно. Но ему сказали, что так едят нувориши из мещан. Только после этого Леська нашел средний стиль, свойственный высокой интеллигенции.
Бельские и Леська всюду появлялись втроем. В городе принимали гимназиста за их сына, и это умиляло. Действительно: бездетная актерская пара относилась к Леське как к собственному ребенку. Надо сказать, что и Леська полюбил Бельских и вошел в их семью как родной.
В каждом доме бытует свой домашний жаргон. Выпало, утром, проснувшись и позевывая, Семен Григорьевич спрашивал:
— Какая погодятина?
— Дождяка! — отвечала Ольга Львовна.
— Не дождяка, а дождина! — кричал из столовой Леська.
— Почему?
— Дождяка — это так себе, маленький нескладный дождишко, а сегодня почти ливень.
Все, что касалось Бельских и их театра, Леська принимал близко к сердцу.
В городе, помимо театра «Гротеск», работал еще и драматический театр с бездарными актерами, но солидным репертуаром. Ставили там «Грозу» Островского, «Дни нашей жизни» Андреева, «Осенние скрипки» Сургучева, «Кровь» Шиманского. Актеры драматического иногда приходили смотреть программу «Гротеска» и неизменно издевались над ней.
Однажды Леська, не занятый в спектакле, стоял на контроле. Драматические, не досмотрев очередной оперетки, задержались подле гимназиста.
— Объясните нам, юноша! — сказал ему «второй любовник» Дальский. — Почему над вашей эстрадой висят трагические маски, если у вас единственный трагик — это медведь: когда ему вовремя не дают молока, он рычит, как Отелло.
Актеры с хохотом удалялись, а Леська кричал им вслед:
— Наш медведь талантливей всех ваших первых и вторых любовников!
Как-то за утренним кофе Леська обратился к старикам с целой речью:
— Ольга Львовна! Семен Григорьевич! Эти халтурщики из драматического издеваются над нашим «Гротеском». А что, если мы один вечер посвятим какому-нибудь классическому спектаклю? А?
— Зачем это? — задумчиво жуя, промолвил Бельский, уставясь в одну точку и думая о чем-то своем.
— А чтобы утереть нос этим мальчишкам! Кстати, весь народ увидит, что «Гротеск» — это подлинное искусство.
Бельский с интересом поднял на него глаза.
— Ольга Львовна! — обратился Леська к старой актрисе со всем пафосом, на какой были способны его восемнадцать лет. — Что бы вы хотели сыграть из классики? Есть ли у вас мечта?
У Ольги Львовны никакой мечты давно уже не было, но ей стыдно стало в этом признаться.
— Мечта всей моей жизни, — сказала она с фальшивинкой, которой Леська не заметил, — это роль Кручининой в пьесе Островского «Без вины виноватые».
— Чудесно! — воскликнул Леська радостно.
— Постой, постой! — сказал Бельский. — А кто же будет играть Незнамова?
— Незнамова сыграю я! — объявил Леська.
— Ты-ы?
— Ну, Елисей, вы слишком самонадеянны, — заворковала Ольга Львовна. — Искусство — это, знаете ли...
— А что! Эта идея мне нравится, — вдруг заволновался Бельский. — По крайней мере Леська будет знать роль назубок. А что касается успеха спектакля, то он весь зависит от Кручининой, а за тебя, ма шер, я спокоен,
Через неделю начались репетиции. Ольга Львовна тряхнула стариной и была, в общем, на своем месте, но Леська совершенно забил ее технику глубиной и подлинностью переживания.
Мать Елисея умерла от родов. Он никогда ее не видел. Но часто думал о том, что своим рождеиием принесей гибель. Да, он убил свою родную мать. Леська никогда ни с кем не делился этими своими думами, но смерть матери была для него с детства той травмой, которая определила весь характер Леськиного мироощущения. Тихость его, замкнутость, острое восприятие чужой боли, даже болезненное чувство правды росли отсюда. И вот ему предстояло сыграть роль молодого человека, которому свойственны все эти черты. Конечно, Незнамов не второе «я» Бредихина. Но сиротское отрочество, страшная тоска по матери, а у Незнамова и встреча с нею, чего навеки лишен Леська, сделали роль Незнамова для него чем-то автобиографическим.
Бельский сам режиссировал спектакль и диву давался, глядя на Леську. Ему приходилось исправлять только Леськин язык:
— Не «чьто», «конечьно» и «скучьно», а «што», «конешно», «скушно». И не «добилась» и «влюбилась», а «добилас», «влюбилас».
— Но у нас говорят так.
— Какое мне дело, как говорят у вас? В русском театре говорят по-русски! — гремел антрепренер.
Спектакль прошел триумфально. Со стороны Леськи была всего одна-единственная накладка: когда танц-куплетист, игравший Миловзорова, забыл текст и выдерживал бесконечную паузу, Леська вздохнул и сказал: «Вот положение!» Этого никак нельзя было бы простить, но танц-куплетист моментально вспомнил свои слова и покатился дальше, как на дутиках.