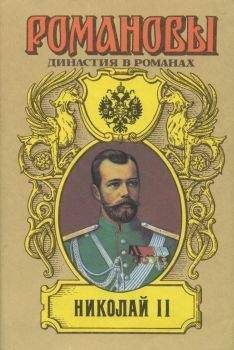Вера Панова - Сказание об Ольге (сборник)
И такое говорила, плача:
– Быть того не может, чтобы твое сердце настолько на меня ожесточилось, чтоб пожелать наказать меня так ужасно! Если же в этом дело, то прошу тебя и заклинаю – вспомни не только мое злое, но и доброе. Я тебя в утробе носила, сосцами вскормила, я тебе рубашечки из шелка шила, на шапочку серебряные бубенчики нашивала! И истязала-то, добра тебе желая, чуяла ведь, чем всё оно кончится!
Но молчала серая доска, засыпаясь снегом. Уж и окошечко завалило до половины пуховым сугробом. Вдруг спохватилась мать, что почти ничего не разглядеть кругом, вечер наступил.
Тогда она наклонилась и прокричала, сложив трубой руки:
– Я прощенья просить пришла, слышишь? Прощенья!
И наставила ухо, и опять напрасно.
– Как же так, – сказала. – Бог и тот, говорят, прощает, если кто покается.
Тут не выдержал послушник:
– Обожди-ка меня! Я к нему схожу.
И, разметав сугроб перед дверью, скрылся за ней. Вернувшись, сказал:
– Не может он видеть тебя. Не может, ну никак, впустить в сердце любовь мирскую. Дал обет иметь лишь небесную любовь.
Совсем уже было темно. Только снег белел.
– Зла же твоего не помнит, – продолжал послушник, – и никогда не помнил, и ты бы его простила, в чем виноват перед тобой, и шлет тебе благословение, и твоего просит. И ты должна понимать, это я уж от себя говорю, что не может он обет нарушить, не спастись ему тогда.
Повернулась мать и побрела прочь, с трудом вытаскивая ноги из снега.
* * *Она поселилась поблизости и иногда видела сына, когда он выходил в город по делам обители. Но подойти и заговорить не смела, чтоб не повредить, не дай боже, его спасению.
Потом она раздала имение бедным, одарила своих слуг, а также Имормыжа, и постриглась в женском монастыре. Но скоро умерла: всё отекали у нее ноги, и не по ней было монастырское житье.
Закат
Возвращается из Константинополя брат Василий.
Так как он приехал с поклажей – дарами Студийского монастыря, – он нанимает в гавани извозчика, едет домой, в обитель, на двуколке.
Весна, всё цветет, двуколка тарахтит негромко по мягкой дороге. Лаская взором родные места, Василий расспрашивает возницу.
– Давненько я из дому, – говорит, – ничего не знаю. Правда или нет, слыхал от встречных путников, будто прогнали киевляне князя Изяслава?
– Правда, – подтверждает возница. – Негожий князь. Сам от половцев побежал и нам побить их оружия не дал: своих, вишь, боится больше, чем половцев. Ну, прогнали.
– И кто ж у нас теперь? Всеслав?
– Нет, Всеслав недолго побыл. После него опять Изяслав вертался на время, поляки ему помогали. А теперь у нас Святослав черниговский.
– И как?
– Да простому народу всё то ж, – говорит возница. – Только много в этой заварухе справных людей побито, в тюрьму покидано, ослеплено безвинно, вот всего нам прибытку.
Едут вдоль длинного сада. Яблонный цвет вздувается шапками, как молочная пена.
– Богатые у вас сады, у пещерников, – говорит возница.
– Ошибаешься, человече. У нас нет садов.
– Как нет садов? И сады у вас есть, и луга, и пахотная земелька, всего вам надарили.
– Никогда, – стоит на своем Василий, – не брали мы таких подарков. Вот, везу я дары – елей, патриархом освященный, паникадило тонкой работы, а земельных угодий мы не принимаем.
– Видишь село? – спрашивает возница, указывая кнутовищем. – Тоже ваше, не спорь со мной. Ваш игумен умелец прибирать имение к имению. Ему что тот князь, что другой, все суют. Чем больше льют кровушки, тем больше суют во отпущение грехов. Ныне вы с доходцем, кончилось прозябание ваше.
Вот новость так новость, думает, смутясь, Василий, неужели алчность нас обуяла и мы уподобились мытарям? Неужели найду моих братьев, и среди них, о печаль, Феодосия, казну считающими, мошну набивающими?
Он находит их на постройке. Вблизи обители они воздвигают дом. Как черные муравьи кишат, трудятся: копают землю, подносят бревна, обтесывают камни. Средь них Феодосий с руками, ободранными в кровь. От постов он высох как мощи. Глаза совсем провалились в глазницы и светят из темных глубин. Узким ручьем стекает по груди седая борода.
Первым долгом Феодосий спрашивает:
– Привез ли ты, брат Василий, полный список устава Феодора Студита?
– Я списал его буква в букву, – отвечает Василий, – как ты велел. Еще привез миро и паникадило многосвечное.
– Пойдем, – говорит Феодосий, – принесем попить братии.
Берет коромысло и ведра и спешит к кринице, и Василий следует за ним с другой парой ведер, не дерзая расспрашивать.
Лишь вечером, на исповеди, он заговаривает о своих сомнениях, о сёлах и садах.
– Не смущайся, брат, – говорит Феодосий. – То не мое и не твое. Ни единое яблоко не упадет в наши руки. То достояние Господа. Он вложил мне в помыслы – копить и умножать для тех, кто ничего не имеет. Щедрой десницей обитель раздает милостыню, в том числе узникам в тюрьму каждое воскресенье посылаем воз печеного хлеба, а также женам и детям, которых князья наши вдовят и сиротят. И дом, который днесь возводим, будет прибежищем нищих и больных.
– Отче, – осмеливается возразить Василий, – сказано о птицах небесных и полевых лилиях, которые, ни о чем не заботясь, милостью Господней получают свое пропитание.
– Неразумие говорит устами твоими, – отвечает Феодосий. – Не через нас ли, его служителей, являет он эту милость? Трость не пишет сама, если не будет пишущего ею. Не прославится секира без секущего ею. Слишком много несчастных, брат, взывает к нам о помощи, и слишком плачевная доля каждую монету на дела милосердия выпрашивать у сильных мира сего. Я это познал в испытаниях моего игуменства. Одна ноша, видишь ли, у пастыря и другая – у пасомого. Вот ты отправлялся в чужие края, и я дал тебе денег и велел зашить в полу ризы, и ты зашивал с веселием и, как та полевая лилия, не призадумался – а где я взял деньги, у кого, убогий, их вымолил, кланяясь в пояс. Ты пустился в путь с одной заботой, тебе порученной: достать устав. Я же, твой игумен, остался под тяжестью, о какой ты и понятия не имеешь, которая подобна каменной горе, возложенной мне на плечи. Дозволь же мне, брат, самому управляться с этим бременем, и пусть с меня взыщется на высшем суде.
– И еще выскажу мысль, – заключает он, – в защиту наших приобретений, и она не менее важна. Время нынче грозное, неизвестно, что может быть с обителью, если не станет она на земле крепко и властно. Ступай.
И затворяется снова, чтобы без помех прочитать полный Студитов устав.
Он выходит из затвора с нововведениями, долженствующими установить в растущей обители порядок совершенный и окончательный. С сего дня братия разделена по четырем степеням, каждый знает свое место пред Господом, каждой степени даже особая одежда. К примеру, великие схимники ходят в мантиях, а обыкновенные монахи мантию носить не могут. Но и те и другие обязаны игумену беспрекословным повиновением. А главное, никакого отныне своего имущества, всё монастырское; сверх того, что даст обитель, ничего тебе не положено; возьми и поклонись, и всё. Наипаче же – собственными деньгами не марай душу, на веки веков о них забудь.
Весь большой светлый день и звездная ночь расчленены на множество отрезков, и указано: в какой отрезок что делать и какой молиться молитвой. Когда нет службы в церкви и кончены совместные работы – не броди без толку, не шастай по кельям, сиди у себя и рукодельничай. И при этом пой божественное. Да не абы как, а чтоб слышно тебя было. А еда только в трапезной, общая, в келье же чтоб мышь и крошки хлеба не нашла.
* * *– Послушай, – спустя время спрашивает Феодосий у Василия, – ты в Студийском монастыре жил, как там у них: бодро исполняют устав или с неохотой?
– Избранные, – отвечает Василий, – исполняют бодро. Им чем утеснительней, тем желанней.
– А с прочими, – спрашивает Феодосий, – как поступают? Епитимия дает помощь?
– По-моему, – говорит Василий, – от епитимии помощь невелика. Просто они большей частью стараются не видеть, когда кто преступает правила. Будто преступления и не было и всё идет как надо.
– Малодушие!
– Много преступлений, – поясняет Василий. – Не хотят срамить обитель.
– Нет, это что же! – говорит Феодосий. – Покрывать грех? Нам не годится!
Как дети, как малые дети! Ропщут, обманывают, не разумея своей же пользы. Соберутся потихоньку, вопреки запрету, и всякую пустоту пересуживают; а один поет божественное, чтоб заглушить разговор – отвести глаза.
Феодосий знает их повадки! Подойдет бесшумно, приложит ухо к двери, сквозь пение различит шушуканье и богоотвратные смешки. Распахивает дверь и входит, стуча посохом. Они бледнеют и встают перед ним. Ох, раскаянья нет в них, только лукавство и робость…
Он их увещевает. Увещевая, плачет. Они молча смотрят на его слезы, темно их молчание. И ходит он, полночи ходит, припадая ухом к дверям.