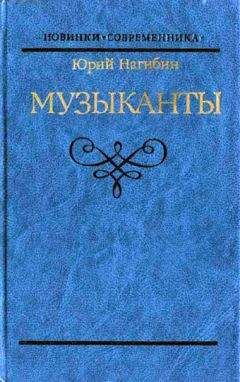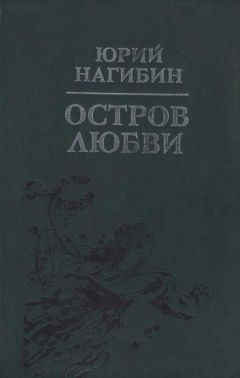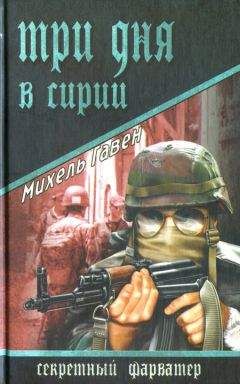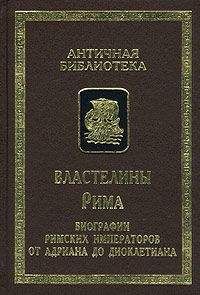Юрий Нагибин - Блестящая и горестная жизнь Имре Кальмана
— Ну что ты, Имре? Перестань!.. Посмотри: мы еще все здесь, еще здесь. Какое это чудо! Мы еще здесь… Возьми Джильду на руки и погладь меня по голове… Вот так… Это наш мир. Целых двадцать лет это наш мир…
* * *…Ночью Кальману приснился старый сон, предвестник перемен: трещала и вскрывалась ледяная броня Балатона. Он ворочался, метался, громко стонал.
Потом настала тишина…
Разговор с корреспондентом
— Зачем вам, серьезному писателю, понадобился Кальман? — вот первый вопрос, заданный мне в Будапеште, куда на исходе позапрошлого года я приехал собирать материал об авторе «Сильвы».
Будь это праздное любопытство, я отделался б шуткой, но спрашивал корреспондент вечерней газеты, хмуроватый молодой человек в кедах, обвешанный фотоаппаратами с устрашающими объективами. Он «накрыл» меня в гостинице «Аттриум», едва я успел переступить порог своего номера: такая оперативность удивила меня, но еще больше удивил сам вопрос.
— Вот не думал, что меня спросят об этом на родине композитора.
— Спросят, и не раз, — сказал журналист. — В вашей стране Кальман популярен, говорят, популярнее, чем у нас. Но вам-то лично он зачем?
— В двух словах не ответишь. Кальман для меня не просто важен, а важнее многого другого, да и не для меня одного…
* * *…Это случилось в блокадном Ленинграде. Три девочки собирались в Театр музыкальной комедии, на премьеру. Да, в театр, потому что, всем смертям назло, Ленинград жил. Полуголодные опереточные актеры давали радостный, зажигательный спектакль, чтобы поддержать дух своих земляков. Спектакль, где была романтика и неподдельная веселость, горячие человеческие чувства и занимательная интрига, где сквозь условность жанра пробивалась настоящая, полнокровная жизнь. Они давали «Сильву».
И три девочки, соседки по коммунальной квартире на Кировском проспекте, две постарше, одна совсем маленькая — первоклассница, чудом раздобывшие билеты на премьеру, взволнованно наряжались, крутясь перед зеркалом, потускневшим от чада печурки и испарений варящегося в кастрюле столярного клея — деликатеса блокадных дней. Их «туалеты» были до слез жалки — ведь все что-нибудь стоящее давно обменено на хлеб и червивую крупу. Они натягивали чулки так, чтоб не видно было дырок, сажей подкрашивали давно потерявшие цвет туфли, прилаживали какой-нибудь кружевной воротничок, или поясок, или брошку из крымских ракушек. Старшая девочка хотела подмазать свои бледные губы, но заработала от общей квартирной бабушки подзатыльник. Худые, как щепки, бледные и большеглазые, они казались себе в зеркале обворожительными.
Младшая из подруг ужасно беспокоилась, что ее не пропустят, хотя спектакль был дневной, поскольку не хватало электроэнергии. В своей коротенькой юбчонке, из-под которой торчали байковые штанишки, и свитерке-обдергайке она выглядела совсем крошкой.
— Бабушка, — просила она, — ну бабушка, дай же мне чего-нибудь надеть!
— Сидела бы дома, — ворчала та. — Рано по театрам-то шлендрать! — Но все же потащилась к сундучку и вынула оттуда клок истершегося горностаевого меха — пожелтевшего, с почти вылезшими черными кисточками; некогда эта убогая вещица была горжеткой.
Близкий взрыв сотряс стены квартиры, где-то со звоном вылетели стекла.
— Налет, — огорченно, но без всякого страха произнесла старшая девочка. — Неужели отменят спектакль?
— Спектакль состоится при любой погоде! — важно произнесла вторая по старшинству. — При летной и при нелетной. По радио говорили.
Старушка набросила горжетку на худенькие плечи внучки. Истончившаяся от голода девочка обрела сказочный вид: не то «Душа кашля» из «Синей птицы», не то карлица-фея, но сама она была в восторге от своей элегантности.
— Совсем другое дело, — сказала она по-взрослому. — Теперь не стыдно идти на премьеру.
Подруги тоже успели собраться. Когда девочки выходили, маленькая приметила в прихожей выцветший и порванный летний зонтик.
— Бабушка, можно его взять?
— Да зачем он тебе? — удивилась старушка.
— От осколков, — сказала маленькая и, показав бабушке язык, схватила зонтик и выскочила на лестницу.
Они вышли из подворотни — три пугала, три красавицы, три маленькие героини, достойные своего великого города. Напротив их дома еще дотлевали останки школы, разбитой прямым попаданием немецкой бомбы.
Они прошли мимо объявления, привлекшего их внимание: «Меняю на продукты: 1) золотые запонки, 2) отрез на юбку (темная шерсть), 3) мужские ботинки желтые № 40, 4) фотоаппарат „ФЭД“ с увеличителем, 5) чайник эмалированный, 6) дрель».
Под яростным ветром девочки перешли Кировский мост — внизу взрослые и дети с бадейками на салазках набирали воду из дымящихся прорубей, — миновали памятник Суворову и краем Марсова поля, где стояла зенитная батарея, вышли на Садовую улицу, затем на Невский и оказались у подъезда «Александринки» — там помещался Театр музыкальной комедии. Словно в довоенные дни, у театрального подъезда кипела взволнованная толпа, походившая, правда, на довоенную лишь своим волнением и жаждой «лишнего билетика», но никак не обликом: бледные лица, ватники, платки, валенки. И все-таки почти в каждом чувствовалось желание хоть чуть-чуть скрасить свой вид. Продавались программы на серо-желтой тонкой бумаге, а на афише значилось:
Премьера. Имре Кальман. СИЛЬВА.
Девочки вошли. Раздеваться в почти неотапливаемом театре было не обязательно, о чем предупреждало объявление, но, подобно большинству зрителей, они сдали в гардероб верхнюю одежду, только маленькая сохранила на шее свою ослепительную горжетку.
Девочки прошли в зал, где было немало военных — преобладали моряки, — заняли места. Их бледные лица порозовели: ведь сейчас начнется счастье, дивная сказка о красивой любви, и не будет ни холода, ни голода, ни разрывов бомб и свиста снарядов — немецкий огонь не прекращался во время спектакля, но никто не обращал на это внимания, — будет то, чем сладка и маняща жизнь.
И вот появился тощий человек во фраке, взмахнул большими худыми руками, и начался удивительный спектакль, где едва державшиеся на ногах актеры изображали перед голодными зрителями любовь, страсть, измену, воссоединение, пели, танцевали, шутили, работая за пределом человеческих сил. Исполнив очередной номер, они почти вываливались за кулисы, там дежурили врач и сестра, им давали глоток хвойного экстракта, иным делали инъекцию.
Но зрители этого не знали. Они были покорены и очарованы. Не стало войны, не стало голода и смерти. Все отхлынуло — была любящая девушка из народа с нежным именем Сильва, и лишь ее горести, ее чувства были важны сидящим в зале…
И вот отгремел последний аккорд, стихли аплодисменты, широкие двери выпустили толпу.
Три девочки шли, пританцовывая и напевая: «Сильва, это сон голубой, голубой», — сами во власти голубого сна. Внезапно старшая девочка будто споткнулась, поднесла руку к сердцу и со странной, медленно истаивающей на худеньком лице улыбкой как-то осторожно опустилась на тротуар, приникла к нему, вытянулась и замерла.
— Людка, ты с ума сошла! — закричала ее подруга. — Вставай немедленно! Простудишься!
— Люда, вставай, ну, вставай же! — со слезами просила маленькая.
Она опустилась на корточки, стала тормошить неподвижную Люду.
— Чего шумишь-то, — проговорила старушка с санками, — не понимаешь, что ли?..
И тогда обе девочки заплакали, закричали.
— Плачь не плачь, назад не вернешь, — сказала старушка. — Ступайте домой, я ее свезу, куда надо, мне не привыкать.
Она подняла почти невесомое тело, положила на санки и повезла…
* * *Эту историю рассказывал людям после войны известный ленинградский литератор Недоброво. А потом я услышал ее куда подробнее от одной из этих девочек, пережившей блокаду и ставшей прекрасной женщиной.
Я и сам был причастен к блокадной премьере. Мне, двадцатидвухлетнему лейтенанту, работнику отдела контрпропаганды Политуправления фронта, пришлось сбрасывать листовку, посвященную «Сильве», над немецкими гарнизонами в Чудове, Любани, Тосно. В те дни немецкое командование вновь принялось втемяшивать своему приунывшему воинству, что «Ленинград сам себя сожрет».
Листовка содержала минимум текста и много фотографий: афиша у входа в театр, набитый до отказа зрительный зал, дирижер за пультом, сцены из оперетты, смеющиеся лица женщин, детей, солдат, матросов, заключительная овация. Крупным шрифтом было набрано сообщение о премьере «Сильвы» и приглашение немецким солдатам посмотреть спектакль в качестве военнопленных, добровольно сложивших оружие. Листовка служит пропуском для сдачи в плен («Дас Флюгблатт гильт альс Пассиршейн фюр ди Гефангенгабе»).