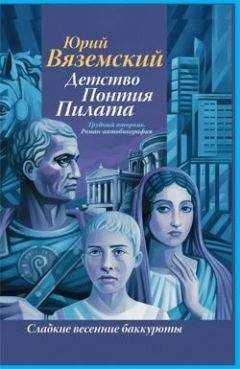Юрий Вяземский - Бедный попугай, или Юность Пилата. Трудный вторник. Роман-свасория
— Так он познакомился с одной тридцатилетней вдовушкой. Они оказались соседями в придорожной гостинице. Днем Кузнечик закупидонил и отприапил ее служанку, а вечером скакнул в соседнюю комнату и прыгнул на госпожу. Он мне потом рассказывал:
«Всю ночь мы боролись, словно атлеты. В кромешной тьме и в полном молчании. Наши руки были вытянуты, перекручены, судорожно сжаты, по коже струился пот. Иногда мы наталкивались на перегородку, на ложе или на стул; тогда, не разжимая объятий, мы замирали на некоторое время, в страхе, как бы наш шум не разбудил кого-нибудь в доме. А затем возобновляли ожесточенную борьбу… Я овладел ею перед рассветом, на жестком полу… И, веришь ли, Тутик, на прощание она мне призналась: „Если бы ты, проказник, не добился своего, я бы пошла к местному претору и засадила тебя в тюрьму. За то насилие, которое ты собирался совершить надо мной. Но не совершил, подлец…“»
Тут Вардий захихикал и задергался. Рабыня Юкунда стала массировать ему пятки, а он, по-видимому, боялся щекотки.
— И повторяю: порны, меретрики, заработчицы, уличные и трактирные девки — их было столько, сколько песков в Африке!.. Ха-ха… А когда его упрекали, некоторые удивленно, другие — насмешливо, иные — брезгливо, не только старшие и почтенные, но сверстники и друзья по амории — Макр, или Галлион, или Павел Эмилий: дескать, с голодухи — понятно, и все насыщаются, но обласканный вольноотпущенницами и юными римлянками, откормленный вдовушками и пресыщенный замужними матронами — зачем? с какой стати? с какого рожна?.. Хи-хи… Когда его так пытались усовестить, Кузнечик, как правило, отвечал чужими стихами. И из Горация вот эти любил декламировать:
Право, у женщины той, что блестит в жемчугах
и смарагдах
(Как ни любуйся, Керинф!), не бывают ведь бедра нежней,
Ноги стройней; у блудниц они часто бывают красивей.
Кроме того, свой товар без прикрас они носят; открыто,
Что на продажу идет, выставляют…
Хе-хе… А из Проперция часто цитировал:
Нет, только та, что гулять может вольно, отбросив
накидку,
И никаких сторожей нет при ней, — та мне мила;
Что не боится башмак замарать на Священной Дороге
И не заставит совсем ждать, коли к ней подойдешь.
Не завопит: «Боюсь! Вставай же скорей, умоляю:
Горе, сегодня ко мне муж из деревни придет!»
— Всё! Хватит! — вскричал Вардий и выпрыгнул с ложа. Срамные части своего обнаженного тела он и не подумал прикрыть.
Но велел рабыне переложить подушку и лег на спину так, чтобы оказаться ко мне лицом. Юкунда принялась массировать ему грудь. А Гней Эдий продолжал, уже не вздрагивая и не хихикая:
XIV. — Кузнечик лишь с первого взгляда казался хрупким и маленьким. На самом же деле роста был чуть ниже среднего. И тело у него было мускулистое, гибкое, хорошо развитое гимнастическими упражнениями. Он славился как неутомимый ходок пешком, был страстный охотник до плаванья в озерах и в море, уроки фехтования брал у Веяния — тогдашнего самого известного гладиатора.
Члены изящны мои, однако нимало не слабы;
Пусть мой вес невелик, жилисто тело мое.
Часто в забавах любви всю ночь проводил, а наутро
Снова к труду был готов, телом все так же могуч...
Он тогда очень гордился своим телом. И было чем гордиться, клянусь поясом Венеры!
Потом у него этот дар постепенно отобрали. Но тогда, в двадцать и в двадцать один год, в эпоху приапейства, на станции Венеры Паренс, Приап или сама Великая Матерь наделили его поистине сатировой силой. Сила эта, с одной стороны, доставляла ему и его купидонкам неиссякаемое наслаждение, но вместе с тем, как он мне однажды пожаловался, причиняла ему едва ли не танталовы муки. «В Аиде, — объяснял Кузнечик, — Танталу не дают есть и пить. Я ем и пью. Но с каждым новым глотком жажда моя лишь усиливается. С каждым новым кушаньем меня охватывает всё более лютый и мучительный голод… Как у Проперция: „Тот, кто безумствам любви конца ожидает, безумен: у настоящей любви нет никаких рубежей“».
Сам посуди. Чтобы утихомирить сидящего внутри него Приапа, Кузнечик должен был рано утром встретиться с молодой и выносливой заработчицей, перед обедом — с одной или несколькими театральными плясуньями, вечером — с гетерой или с провинциалкой-вольноотпущенницей. И всё это лишь для того, чтобы ночью не истерзать и не измучить какую-нибудь вдовушку, замужнюю матрону или римлянку-молодку. Он мне однажды признался: «Милый Тутик! У меня на дню должно быть сразу несколько купидонок. Если у меня будет одна, она умрет через несколько дней».
Обычный человек если не с первого раза, то со второго и с третьего уж точно утолит свою страсть и блаженно обессилит. Кузнечик же выдерживал десять, пятнадцать, двадцать заездов — его выражение. «Трижды обогнув мету, — говорил он, — я не испытываю ни малейшей усталости. После десятого заезда мне обычно хочется съесть яблоко или грушу. После пятнадцатого поворота — осушить чашу цельного вина. После двадцатого мне надо немного поспать, чтобы с новыми силами продолжить гонки».
Самый короткий заезд, по его словам, длился около четверти часа. Самый продолжительный — более семи часов.
Ты скажешь, преувеличивал?.. Я тоже однажды позволил себе усомниться. Тогда Кузнечик повлек меня в ближайший лупанарий, выбрал трех заработчиц и у меня на глазах с каждой из них совершил по шесть заездов подряд!
Одна из его замужних купидонок, как тогда говорили, страдала лидийской болезнью, то есть в приапействе была ненасытной. Муж ее, всадник-публикан, так устал от ее аппетита, что заставлял ее носить обвязанное вокруг талии мокрое холодное полотенце, надеясь таким образом хотя бы слегка остудить ее пыл. Она потому и прилепилась к Кузнечику, что тот снимал с нее проклятое полотенце и приапил ее повсюду и беспрерывно: в крытых носилках, когда они ехали к нему или к ней домой; в роще на плаще и под деревом, если по дороге попадалась им роща; в саду, «в беспорядке вокруг свежих роз накидав» — так у Проперция; один раз — на заброшенном кладбище, потому что они шли пешком и его несчастной купидонке так сильно приспичило… Однажды он ворвался ко мне в дом, упал передо мной на колени и взмолился: «Тутик! Пойди, погуляй на часочек! Лесбия моя умрет, если твой кров не придет нам на помощь!» И я еще не успел выйти из дома, как они сплелись, будто плющ вокруг дуба, вцепились друг в дружку, как египетские кошки, и тут же, в прихожей, на холодном полу… Когда часа через два я вернулся, у них в самом разгаре была навмахия в имплувии… Вернувшись еще через час, я застал их под лестницей на ложе рабыни; она была в позе филлейской матери, а он — парфянского стрелка… Увы, мне пришлось нарушить гостеприимство и прервать их заезды. Ибо к вечеру ожидался возврат из деревни моего отца. И, надо сказать, остававшиеся в доме рабы были так сильно смущены и перепуганы, что заперлись в винном погребе и едва не окоченели… Лесбия — так Кузнечик называл эту женщину в честь возлюбленной Катулла — Лесбия, уходя, обхватила меня руками за шею и закричала мне в ухо: «Он демон! Он бог! Я с ним теряю рассудок и превращаюсь в менаду!.. Вакх! Приап! Аполлон! Мне хочется умереть! Я не хочу возвращаться на землю!..» Она бы совсем меня оглушила, если б Кузнечик не пришел мне на помощь и не вытащил свою подружку сначала в прихожую, а затем — на улицу.
Преувеличивал, говоришь? Нет, полагаю, преуменьшал.
Юкунда-рабыня уже массировала Вардию живот, все ниже и ниже спускаясь руками. Я старался теперь не смотреть в их сторону.
А Гней Эдий все больше оживлялся:
— Помнишь, у Катулла:
Ты меня поджидай, приготовься
Девять кряду со мной сомкнуть объятий.
Разрешай же скорей: нету мочи, —
Пообедал я, сыт и, лежа навзничь,
И рубаху и плащ проткну, пожалуй.
Так вот, однажды, когда мы гуляли с Кузнечиком, он, описывая мне очередное свое любовное ристание, вдруг рассмеялся, словно малый ребенок, тряхнул кудрями и, указав пальцем на статую Приапа — мы прогуливались по садам Мецената, — воскликнул: «Я как он! То есть в любой момент. И даже без всякого повода!» — Я не понял его восклицания. Тогда Кузнечик распахнул плащ и велел: «Смотри на тунику». Я стал смотреть и увидел, как туника медленно приподнимается… — «В любой момент могу вывести из стойла моего скакуна», — смеясь, объяснил мне мой друг…
— Не надо на меня смотреть! Я этого не умею и никогда не умел! — крикнул мне Вардий, хотя, повторяю, я уже не смотрел в его сторону.