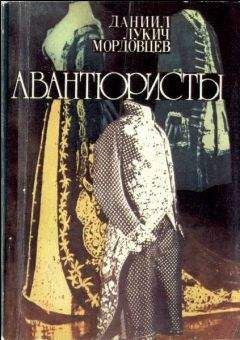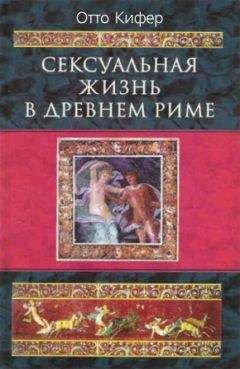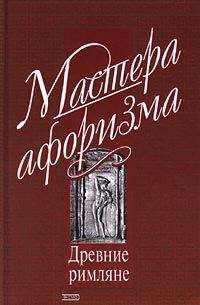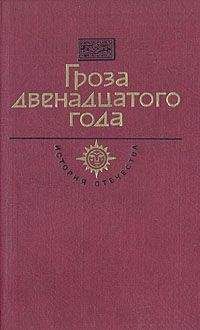Даниил Мордовцев - Царь Петр и правительница Софья
— Ты спрашиваешь, Никита, что честнее… — начал было он.
Но Никита бросился на него с азартом и замахнулся рукою…
— Что ты, нога, выше головы ставишься! — закричал он с поднятым кулаком. — Я не с тобою говорю, а с патриархом!
— Так его: в морду! По сусалам!
— Нога выше головы!
Но стрельцы схватили Никиту и оттащили, не дали ударить. Того и гляди, произошла бы резня. На всех напал страх. Софья вскочила с места, глаза ее сверкали гневом.
— Что это такое! В наших глазах он архиерея бьет! Без нас наверное бы убил!
И раскольников, и стрельцов испугал этот звонкий девический голос, эти глаза, метавшие искры. Она была в этот момент очень хороша.
— Нет, государыня, он не бил, только рукою отвел, — послышались робкие голоса.
— Тебе ли, — продолжала царевна, гладя сердито на фанатика, — со святейшим патриархом говорить! Не стоишь ты и на глазах быть у нас! Разве ты не помнишь, как ты отцу нашему и святейшему патриарху и всему освященному собору принес повинную, клялся великою клятвою: аще вперед стану бить челом о вере, да будет на мне клятва святых отец и семи вселенских соборов! Так говорил ты тогда, а теперь опять за то же принялся!
Но фанатик не был этим уничтожен, хоть слова царевны огнем прошли по всему его телу, по его памяти, по всему его прошлому… Да, он клялся тогда… он струсил… Один Аввакум не струсил, на костер пошел… Стыдом залились его глаза, помутились, стыдом ли, полно? Не злобой ли, вызванной краскою стыда?.. «Так и я пойду на костер!.. Со стыда, со злобы решается человек на смерть…» — Кругом мертвая тишина, Никита понял весь ужас этой тишины…
— Не запираюсь, государыня! (И мертвая бледность сменила краску на его щеках.) Не запираюсь: поднес тогда повинную, за мечом да за срубом!.. (Он оглянулся на своих, глянул на Хованского.) А на челобитную мою, что я подал на соборе, никто мне ответа не дал из архиереев… Сложил только на меня Семен Полоцкий книгу «Жезл», а в ней и пятой части против моего челобитья нет… Изволишь, я и теперь готов против «Жезла» отвечать, и если буду виноват, то делайте со мной что хотите!
— Не стать тебе с нами и говорить и на глазах наших быть! — с презрением отвернулась от него Софья. — Чтите челобитную.
Думный дьяк начал читать челобитную. По мере того, как в читаемом документе усиливались обвинения против исправителей книг, по мере перечисления нарушений святости разных «азов», да «сугубых» и «трегубых аллилуй», да «семи просвир», да «некоей проклятой ижицы», которую якобы батюшке Христу еретики подкинули[2], по мере нагромождения в челобитной разных оглушительных нелепостей, казавшихся важными, в глазах Никиты сверкало дикое торжество, а Софья нервно теребила золотую бахрому своего богатого сиденья. Но когда дьяк дочитал до того места, где говорилось с тем же диким азартом, что чернец Арсенька, еретик и жидовский обрезанец, вместе с проклятым патриаршишкою Никоном поколебали душою царя Алексея, Софья не выдержала и опять вскочила с места, взволнованная и пунцовая до корня волос.
— Если Арсений и Никон — патриарх еретики, то и отец наш и брат такие же еретики! — вскричала она, слезы готовы были брызнуть из ее глаз. — Выходит, что и нынешние цари не цари, патриархи не патриархи, архиереи не архиереи!
Слезы разом брызнули из ее глаз. Князь Василий Голицын схватился было за рукоятку ножа, спрятанного у него под кафтаном, и только значительно посмотрел на царевну. Она закрыла лицо ладонями и разрыдалась.
— Такой хулы мы не хотим слышать! — плакала она. — Не хотим! Наш отец и брат не еретики. Мы пойдем все из царства вон!
Она сорвалась совсем с трона и отошла в сторону тяжело дыша. Все заволновалось. Бояре схватились с мест, стрелецкие выборные тоже. Многие плакали.
— Матушка! — первым лебезил старый Тараруй. — Государыня-царевна!
— Зачем царям — государям из царства вон идти! — поддерживали другие. — Мы рады за них головы свои положить!
Но сзади, в толпе, раздались другие голоса.
— Пора, давно пора тебе, государыня, в монастырь.
— Полно-ка царством-то мутить! Ишь выискалась! Иди!
— Скатертью тебе дорожка, проваливай!
— И точно…. Нам бы здоровы были цари — осудари, а без баб пусто не будет!
Она все это слышала и, как ужаленная, путаясь в складках своего платья, опять быстро взошла на возвышение. Слез как не бывало. Она обратилась прямо к стрельцам.
— Слышите! Все это оттого, что эти мужики на вас надеются, оттого и ворвались сюда с дерзостью! Чего же вы смотрите? Хорошо ли таким мужикам — невеждам к нам бунтом приходить, творить нам всем досады и кричать? Неужто вы, верные слуги нашего деда, отца и брата, в единомыслии с раскольниками? Вы и нашими верными слугами зоветесь, зачем же таким невеждам попускаете? Уж коли мы должны быть в таком порабощении, то царям и нам здесь больше жить нельзя: пойдем в другие города и возвестим всему народу о таком непослушании и разорении.
Стрельцы струсили. А что если вся русская земля встанет за царей и пойдет на Москву и на стрельцов? Цыклеру как умнейшему не раз это приходило в голову: «Выкурят нас из Москвы, как тараканов, как поляков когда-то выкурили…»
Он поднялся с места и подошел к возвышению, к чертожному месту.
— Мы великим государям и вам, государыням, верно служить рады, — сказал он кланяясь, — за православную веру, за церковь и за ваше царское величество готовы головы свои положить и по указу вашему все сделать. Токмо сами вы, государыни, видите, что народ возмущен, и у палат ваших стоит множество людей: только бы как-нибудь этот день проводить, чтоб нам от них не пострадать… А что великим государям и вам, государыням, идти из царствующего града, сохрани Боже! Зачем это?
— Иван правду говорит, — послышались голоса.
— Что ж! Мы ничего, мы служить рады, нам что! Наплевать!
Софья опять села на чертожное место и, когда оглянулась, то поймала очень выразительный взгляд князя Голицына… «Светик Васенька придумал что-то», — подсказал ей этот взгляд, а еще более ее собственное сердце. Голицын снова повел глазами по рядам бояр и думных, поймал взгляд Сумбулова, и оба они незаметно скрылись из палаты.
«Что бы мог придумать мой сокол? — билось в сердце влюбленной царевны. — И Сумбулов с ним же вышел… Что б оно было такое?»
Никита угрюмо молчал… «В срубе сожгут али голову отсекут?»
Чтение челобитной, наконец, кончено. Патриарх берет в одну руку евангелие, писанное митрополитом Алексеем, в другую соборное деяние патриарха Иеремии с символом веры.
— Вот старые книги, — говорит Иоаким, — и мы им истинно последуем.
Все молчали. Из среды духовенства выходит священник с книгой и кланяется царевнам, патриарху и всему собору. Видно, что в руках у него старая книга. Никита даже узнает ее: она напечатана до Никона, еще при патриархе Филарете. Глаза его блеснули торжеством.
— Знаешь эту книгу, Никита? — спрашивает его священник.
— Мне ль не знать ее! — слышится гордый ответ.
— Ты ей веришь?
— Кто б ей не поверил!
— До слова ей веришь, Никита? — переспрашивает священник.
— До слова, яко Самому Господу Богу!
Священник развертывает книгу на одном месте и подает Никите.
— На, читай вслух.
— Кое место честь?
— Чти: в великий четверток и в страстную субботу…
— В великий четверток и в страстную субботу разрешение мяса и елея…
Книга вываливается из рук фанатика. Общее смятение. Никита поражен.
— Что, Никитушка? — спрашивает ехидный священник. — Теперь веришь старым книгам? Мясо в эки дни пропечатано…
Никита отчаянно махнул рукой и отвернулся.
— Такие же плуты печатали, как и вы! — мог только сказать он.
Увидев поражение «столпа» своего и апостола, раскольники заволновались. Грановитая палата наполнилась невообразимым гамом, таким гамом, какого, по тогдашнему выражению, «никакое человеческое писало описать не в состоянии». Диспут ревнителей состоял только в том, что они поднимали вверх правые руки с двумя выставленными в виде сорочьих хвостов пальцами и неистово вопили:
— Вот как, православные! Вот как!
— За батюшку аза постоим!
— За матушку сугубую аллилую головы положим!
— Вон из Христа — света проклятую ижицу!
Но Цыклер и выборные стрельцы прикрикнули на них, и они опешили.
— По вашему челобитью указ великих государей будет после! — объявила Софья. — Идите по домам.
Толпа потянулась из палаты, кресты, налои, книги, свечи, все двинулось, громыхая сапожищами и подымая с торжеством вверх два пальца.
— Победихом! Победихом! Во как веруйте, православные!
На дворе их ожидало необыкновенное зрелище, от которого они пришли было в умиление. Весь двор уставлен был столами, а на них горы калачей и саек, да громадные, как купели, медные ушаты с вином и водкой. «Отцы» вообразили, что это их хотят угостить, яко победителей, и уже стали было подбираться к ушатам и ендовам, но бывший тут со стрельцами князь Василий Голицын остановил их: