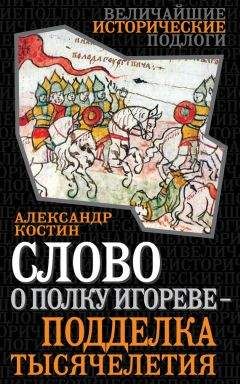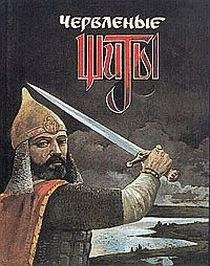Юрий Нагибин - Единственный и неповторимый
Обошлась она и без любви в немятежной своей юности. Первая близость с мужчиной, как положено в московской молодой бездомности — у помойки, — неловкая, неумелая и болезненная: уходящий на фронт лейтенантик едва ли обладал большим опытом, нежели она сама, — не привлекла ее к науке страсти нежной. Науку — без нежности и страсти — она обрела позже: на выездах, став солисткой балета. А лейтенантика того она видела всего несколько раз и не успела к нему привязаться. Он был довольно симпатичный с виду, но какой-то суматошный и напуганный. У него все время скапливался пот в складках узкого лба. Потом Ася поняла: он боялся фронта, и не зря боялся — его убили чуть не в первом же бою. Асе пришла похоронка. Она очень удивилась, потому что не давала ему своего адреса и до похоронки никаких вестей от него не имела. Но видать, она что-то значила для него, если он указал дать ей последнее оповещение. Она хотела опечалиться, попереживать, но даже слезинки не выдавила. От ее короткого романа ей помнилось лишь потное озабоченное лицо, селедочная вонь помойки и острая, долго не проходившая боль в промежности.
Подобных Асе полуспящих людей много, куда больше, нежели ощущающих жизнь как определенное состояние, тревожащее и к чему-то обязывающее. Ася же лишь пребывала в жизни, совершая много всяких действий, ей самой вроде бы и ненужных: она прибирала комнату, ходила в магазин, на репетиции и спектакли, иногда ездила в дом отдыха и там обязательно сближалась с кем-то, без желания и любопытства, просто потому, что все так делают. Без участия души и сознания она обслуживала и утомленных войной боевых и штатских генералов.
Она была бесцветной, почти альбиноской, с бледной кожей и волосами много светлее льна. Но до красных кроличьих глаз дело не дошло: радужки были голубые, а белки чистые. Кукольно курносый, сильно вздернутый нос сообщал детскость, наивность, нетронутость ее не слишком свежему лицу, что, наверное, и привлекало мужчин. Впрочем, на цыганистую костлявую Верку спрос был не меньше, странно даже, почему им не предпочитали других, видных, красивых девок. Наверное, какая-то молдаванка, оторви и брось, больше волнует усталую мужскую кровь, чем безликая пригожесть.
Верку в любой толпе углядишь, Ася же была почти невидимка, и удивительно, как ухитрялись высмотреть ее «у воды» будущие клиенты. А может, никто и не высматривал, просто в парткоме, профкоме или первом отделе — кто их разберет! — решили, что с ней осечки не будет — обязательно приглянется подвыпившему и срочно нуждающемуся в чем-то мягком, женском деятелю и, уж во всяком случае, сойдет на один раз. Кстати, у нее крайне редко случались повторные вызовы, а после последнего все другие разом отпали.
Сидя в низенькой, обитой гладкой серой кожей машине, Ася ни о чем не думала и после короткой вспышки карликового бунта, когда она стала провоцировать своего угрюмого спутника, ушла в сохраняющий слабые силы полусон. То не было выключением из действительности, мозг механически отмечал подробности путешествия: машина притормаживала у светофоров, обгоняла другие машины, чуть не сшибла выскочившую из-за троллейбуса тетку в деревенском платке, — но не силился угадать, где они едут, в каком направлении. Какая разница?.. А потом границы улицы раздвинулись — они выехали на шоссе, тут Ася немного встряхнулась — загородные рейсы случались не часто. Вскоре они куда-то свернули и оказались возле высоких запертых ворот. Из караулки вышел военный, заглянул в машину, и одна из створок ворот отпахнулась. Потом были еще ворота и караульный, Ася поняла, что ее привезли в сильно засекреченную воинскую часть. Машина подъехала к невысокому деревянному строению и остановилась. Сопровождающий вышел и жестом указал ей следовать за ним.
Они вошли в дом, миновали полутемную прихожую и оказались в почти пустой комнате, где за маленьким столиком сидел пожилой человек в коверкотовом френче с пустым бабьим лицом.
— Здравствуйте, — сказала Ася на всякий случай.
Человек с бабьим лицом не ответил, скользнул по ней пустым взглядом, кивком отпустил сопровождающего, подошел к двери, обитой дерматином, и поцарапался в нее. Получив, видимо, ответный сигнал, чуть приоткрыл и одним лишь смещением тухлых глазных яблок указал Асе: проходи.
Асю разозлила эта игра в молчанку. Можно подумать, великое государственное дело вершат, а не подносят живой товар чиновному похотнику. Она с независимым видом прошла мимо коверкотового стража, толкнула дверь носком туфли и оказалась в скудно освещенной комнате, служившей и кабинетом, и спальней. На письменном столе стояла лампа под зеленым абажуром, она и дарила свой тусклый нездоровый свет остальному помещению. Еще были два шкафа: один застекленный книжный, другой с глухими дверцами, небольшой круглый столик, несколько стульев и застланная тахта.
За столиком сидел старик и ел куриную ногу. Он держал ее двумя руками за мослы и выхватывал мясо зубами. Он был в кителе с широкими погонами, брюках с лампасами и высоких генеральских сапогах. Так и есть — генерал. Да не из важных: погон приютил только одну звезду. Стоило наводить такую секретность, у ней куда выше рангом бывали, а не выкаблучивались. Сутулый, с худым, решетчатым от оспы лицом и рыжеватыми, проточенными сединой волосами, генерал выглядел весьма неавантажно. И ел он неопрятно: рот в сале, пальцы вытирает о скатерть. Некоторое время они молча глядели друг на друга. Генерал решил, что ее пристальный взгляд относится к курице. Он повертел куриную ногу и с некоторым сожалением положил объедок на тарелку.
— Хочешь — дожри, — проговорил он горловым, показавшимся знакомым голосом, в котором отчетливо прозвучал восточный акцент.
— Я сытая, — машинально ответила Ася.
Внутри ее происходила странная работа: ее тайная душа о чем-то догадывалась, в то время как сознание, не вмещая в себя эту невероятную догадку, гнало ее прочь. Она бредит… Какая чушь!.. Опомнись, шиза, у тебя струя в глазах… Тот большой, красивый, черноволосый, с чистым смуглым лицом, с мудрым и ласковым взором, а не тщедушный рябой старикашка с сальными ртом и пальцами.
Старикашка взял из лежащей на столе пачки казбечину, чиркнул спичкой, до одури знакомо склонил голову и закурил. В короткой вспышке мелькнул золотой погон с большой маршальской звездой, и на стене и потолке задержалась огромная тень его головы. И тень эта совпала один к одному со знакомым образом.
— За Родину, за Сталина!.. — выпалила Ася из глубины своей бывшей комсомольской души и без сознания упала на тахту.
Когда она очнулась, вождь, отложив папиросу, догладывал курицу. Увидев, что она пришла в себя, он вытер пальцы о скатерть и сказал:
— Раздевайся. Ложись.
Сам же семенящей походкой прошел к шкафу с глухими дверцами, достал бутылку коньяка и стопку. Аккуратно наполнив стопку, он осушил ее медленными глотками, потер грудобрюшную преграду и убрал коньяк в шкаф. Он опустился на тахту и стал снимать сапоги. Делал он это неловко, натужно, и Ася заметила, что одна рука у него меньше другой. «Сухорукий!» — как-то испуганно догадалась она.
С сапогами вождь все-таки справился, а вот китель почему-то не снял, она же, дура, осталась в чулках, думала, так соблазнительнее, и, конечно, порвала их о маршальские звезды. Это была последняя целая пара. Она чуть не со слезами отмечала: одна петля полезла, вторая, третья…
«Я скажу ему, чтоб были мне чулки!» — хорохорилась она под скупым, но странно грузным телом. Когда же эта возможность представилась, она не нашла в себе отваги, только нарочито медленно подтягивала расползшиеся черные чулки на своих худых стройных ногах. Но он и внимания не обратил на эти жалкие маневры. Вообще было такое ощущение, будто он ее не видит. Он ни разу не поцеловал ее, не погладил, не обмолвился ни одним ласковым словом. Видать, не понравилась, решила без малейшего сожаления Ася. И тени пережитой ошеломленности, захлебного комсомольского восторга не было в ней. Холодный, жесткий, несимпатичный старик. И хорошо, если на этом все кончится.
Но когда она оделась, поняв, что в ее услугах больше не нуждаются, он сказал своим негромким, неокрашенным, медленным голосом:
— Первое: не надо комсомольских лозунгов. Второе — не суетиться. Третье… — Он задумался, и Ася задержала дыхание, вдруг ощутив историзм минуты, при ней рождалось нечто вроде шести условий Сталина, которые она изучала в школе. — Третье… — Мысль после большого физического напряжения работала туго. — Надо следить за собой. Некрасиво, когда на женщине рваные чулки.
И тут она не решилась сказать: да я же о ваши звезды их порвала. Она сказала только:
— Слушаюсь, товарищ Сталин.
Он подошел к стене и отколол пришпиленную кнопками репродукцию картины «Грачи прилетели». «Неужели он хочет подарить мне эту дрянь?» — ужаснулась Ася, но он вовсе не собирался ее одаривать. Просто решил перевесить картинку на другое место. Пока он этим занимался, за ней пришли.