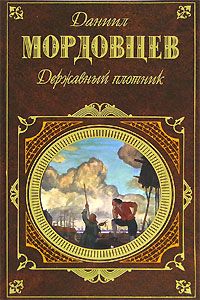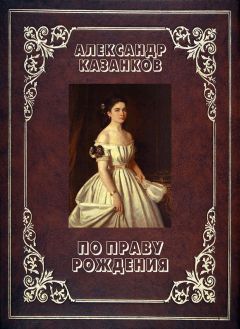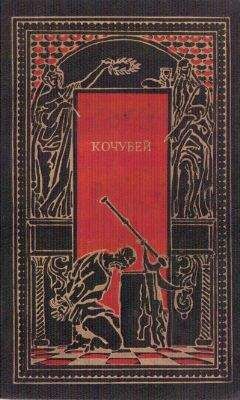Даниил Мордовцев - Москва слезам не верит
— Это уже опосля назвали его Котельничем, — заметил слепой калика. — Тамотка нашли наши деды медь и железо и учали делать котлы знатные. С той поры Каршаров и стал Котельничем.
— А что ж Хлынов-град, далеко ли еще до него? — спросил Морозов.
— Близехонько, — отвечал Курицын. — Сейчас доплывем. И точно: вскоре узрели высокую гору, что при впадении в Вятку-реку реки Хлыновицы. Так они назвали ее потому, что по той реке водились неведомо какие дикие птицы, коих крик пришельцам слышался якобы так: «Хли-хли! Хли-хли!»
— Есть такая у вас птица? — спросил хозяин калик перехожих.
— Може, и есть, батюшка князь, только мы не ведаем, про которую птицу говорится, — отвечали те. — Може, выпь, може гагара...
— Узревши гору над рекою, — продолжал дьяк, — ушкуйники и возлюбили то место. И бысть новое тут чудо. Неведомо откуда пригнала, надо полагать, Небесная сила к тому месту такое великое множество готовых бревен, что было из чего срубить и детинец, и земскую избу, и церковь Воздвижения Честнаго Креста Господня...
Боярин Морозов не вытерпел... Он ударил кулаком по столу и горячо проговорил:
— Нет, князья и бояре!.. Не Небесная то сила пригнала к ним те бревна, а сила нечистая. Коли Господь стал бы помогать бабам, которые закон поломали, мужей обманули, казну покрали! Знаю, нечистая сила... А все бабы — сосуд сатаны! Стали бы угоднички помогать блудницам вавилонским, ни за какие молебны! А откедова они себе попов добыли? Тоже, чаю, беглые... да с чужими женами.
В это время дворецкий тихонько доложил что-то своему господину.
— Гости мои дорогие! — обратился хозяин к пирующим. — Прослышала моя благоверная про ваш приход ко мне и похотела сама почтить вас медами сладкими.
— Слава, слава княгинюшке на добром хотении! — воскликнули все разом.
И тотчас из внутренних покоев дородная княгиня выплыла, точно лебедь белая, а за нею холопы с подносами, уставленными чарами с медом, и началось потчеванье с поклонами.
Угощая гостей, княгиня с любопытством поглядывала на калик перехожих, ради которых, собственно, она и вышла.
— Поднесите и странничкам, каликам перехожим, — сказала она холопам, обойдя с ними всех гостей.
Выпили страннички. Зрячие лукаво переглянулись, а слепец спросил:
— Про старину молвишь, княгинюшка?
— Про старину, старче Божий, — был ответ.
По струнам домры тотчас ударили пальцы старшего из калик перехожих — неожиданно сильные для старика быстрые пальцы, и он запел протяжно, торжественно, а зрячие подхватили:
Как на славной было, братцы, на Сафат-реке.
Нездорово, братцы, учинилося.
Помутилась славная Сафат-река,
Помешался славный богатырский крут:
Что не стало большого богатыря
Старого удала Ильи Муромца!
Уж вы, братцы, вы, товарищи!
Убирайте-ка вы легки струженьки
Дорогим суконцем багрецовыим,
Увивайте-ка весельчики
Аравитским красным золотом,
Увивайте-ка укрюченьки
Цареградским крупным жемчугом, —
Чтобы по ночам они не буркали,
Чтобы не подавали ясака
К тем злым людям — татаровьям...
Все сосредоточенно слушали стройное, за душу хватающее пение, княгиня сидела пригорюнившись и тяжко вздыхала, точно в церкви «на страстях». Это пелась былина о том, «как перевелись богатыри на святой Руси...»
Выехали в чисто поле все семь могучих богатырей с Ильей Муромцем во главе, и едва всесветный хвастун Алеша Попович громко воскликнул: «Подавай нам силу хоть Небесную, мы и с тою силою, братцы, справимся», как навстречу им «двое супротивников»... То были ангелы, и богатыри их не узнали. Завязался бой. Разрубил одного Алеша, а из одного стало двое!
Сколько богатыри ни рубили супротивников, а число их все удваивалось...
И богатыри от ужаса окаменели!
Калики перехожие кончили каким-то стоном:
С тех-то пор могучие богатыри
И перевелися на святой Руси!
Тут богатырям и старинам конец...
Княгиня, подперев щеку рукой, горько плакала...
III. ХЛЫНОВ СПРАВЛЯЕТ РАДУНИЦУ
Мы в Хлынове...
Над городом белая, ясная ночь севера, когда заря с зарею сходится. С ближайшего луга, что упирается пологим берегом в реку Вятку, несутся звуки веселых песен и визг «сопелий и свистелей», прерываемый иногда глухим гудением бубна. Слышны мелодичные женские хоры вперемежку с мужскими. Это хлыновцы справляют веселую Радуницу[3], канун рождества Иоанна Предтечи. В это время в самом городе мимо церкви Воздвижения Честнаго Креста, тихо бормоча про себя, пробирается старичок в одежде черноризца и с посохом в руке.
— Никак блаженный муж Елизарушка? — окликнул его женский голос.
Старик остановилсяи радостно проговорил:
— Кого я зрю! Благочестивую воеводицу Ирину... Камо грядеще в сию бесовскую нощь?
— И не говори, родной! И так-то горе на душе да думушки невеселые, а тут эта Радуница спать не дает. А иду я за моей ягодушкой Оничкой: убивается она по батюшке, так и пошла, чтобы горе размыкать, в церковь, помолиться и поплакать. Уж так-то она сокрушается по отце. А ты зачем в город да еще и на ночь?
— Бегу от беса полунощно: эти сопели да свистели с бубнами изгнали меня из моего скитка. Иду я теперь и повторяю про себя святые словеса отца Памфила, игумена Елизаровой пустыни: «Егда бо придет самый праздник Рождества Предтечева, когда во святую сию нощь мало не весь град возметется и в селях возбесятся в бубны и в сопели, и гудением струнным, и всякими неподобными играми сатанинскими, плесканием и плясанием, женам же и девам главами кивание, хребтами вихляние, ногами скакание и топтание... ту же есть мужам и отрокам великое падение, ту же есть на женское и девичье шатание блудное им воззрение, такоже есть и женам мужатым осквернение, и девам растление...»
— Ох, уж и не говори, Лизарушка-свет, — набожно качала головой та, которую назвали воеводицей. — На свет бы не глядели мои глазынки. А тут мой-то как в воду канул, с самого светлаго праздничка не подал о себе ни единой весточки.
— Да с кем, матушка? Да и то молвить: вить они в Казани около царя Ибрагима долгонько околачивались, договор с ним учиняли: стать заодно супротив князя московского Ивана Васильевича. Потом же в Москву отправились узнать-прознать обо всем...
— А коли мово-то с товарищи спознают там?
— Как их спознать? На Москве кого нет!
— Хоть и сказывал мне Исуп Глазатый, что, едучи с Москвы к Нижнему, он сустрел их на пути во образе калик перехожих, а все страшно.
— Точно, матушка, — подтвердил старичок, — каликами перехожими они к Москве путь держали. А царь-от Ибрагим и грамоту им дал с тамгою, плечо о плечо татаровям с хлыновцами добывать Москву. А все же не одобряю я сего. Хоша Пахомий Лазорев и похвалялся: «Давно-деи мы разве Золотую Орду пустошили, стольный их град Сарай на копье взяли и разорили? А Москва-деи Сараю сколько годов кланялась, дань давала, а московские князья холопами себя у тех ханов почитали... Не устоять-деи Москве супротив Хлынова и Казани.
— Ох-ох! — скорбела воеводица.
В это время из церкви вышли две девушки.
— Вот и Онюшка с Оринушкой...
Одна из девушек была белокурая красавица, высокая, стройная, с роскошною льняною косой, мягким жгутом падавшею до подколенных изгибов. Что придавало ее миловидному личику особую оригинальность и красу — это ясные черные, детски невинные глаза под черными же дугами бровей. Это и была Оня, дочь воеводицы.
Другая девушка была полненькая, черненькая, с синими, как васильки, глазами. Когда она улыбалась, сверкали ровные и белые, как кипень, зубки. Эта была Оринушка Богодайщикова, приятельница Они.
Обе девушки подошли под благословение старичка.
— Здравствуйте, девоньки, — ласково заговорил он, перекрестив истово и погладив наклонные девичьи головки. — Молились, деточки?
— Молились, батюшка, — отвечали они.
— Благое дело творили, детки, — похвалил старичок. — А то, вон там, невегласи, вишь, как бесу молятся, — кивнул он головой по тому направлению, откуда неслось пение и гудение веселой Радуницы. — Ишь расходилось бесовское игрище!
А «бесовское игрище» было, по-видимому, в самом разгаре. То веселились дети природы, совершая обрядовый ритуал, как во время Перуна, который, казалось, на мольбы новгородцев «выдибай, Боже!» сжалился над детьми природы, выплыл на берег Волхова и переселился на берега Вятки, где и ютился в зелени лугов града Хлынова.
Теперь бубны перешли в нестовое гудение, а пение в «неприязнен клич». То уже была оргия несдерживаемой страсти: «хребтами вихляние, ногами скакание и топтание», женское и девичье «шатание» — бал детей природы, только не в душных залах, а среди цветов и зелени лугов, под бледным северным небом, которое, казалось, благословляло их...
— Про батюшково здоровье молилась, миленькая Онисьюшка?
— Про батюшково, дедушка, — отвечала, потупляя лучистые глаза, Оня.