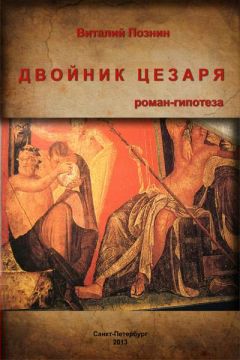Петр Краснов - Цесаревна
День перевалил за полдень. Длинными стали синие тени. Пахло навозом, сеном, соломенным дымом, хлебом и точно ладаном. В черной растоптанной грязи у колодца лошади ожидали, когда наполнят долбленую колоду, журавель со скрипом опускался в глубину и долго и медленно тянул тяжелое ведро. Лошади в сбруе пили жадно, поводя боками. Ямщик посвистывал и лениво переговаривался с бабой, принесшей ему хлеб и сыр, завернутый в тряпицу, с крыльца комиссар в мундирном кафтане говорил хриплым, непроснувшимся голосом:
— Обратно поедешь, завезешь письмо помещице Олтабасовой.
Ямщик, не глядя на смотрителя, глухо, рывком отвечал:
— Понимаю.
Вишневский в хате пил токайское и закусывал печеными яйцами и таранью. Этой тарани, до боли в языке соленной, и копченого сала до отвала наелся Алеша, и ему хотелось прильнуть вместе с лошадьми к колоде, куда с холодным, дремотным журчаньем выливалась из бадьи вода, и пить, вложив полные губы в самую влагу.
Из-за угла неожиданно появился сбитенщик. Он был в валенках, в рваном полушубке, к которому был привьючен большой медный куб с длинным краном, закутанный в тряпье. Полковник из окна крикнул Алеше:
— Розум, напейся сбитенька… Возьми на пол-алтына. Сбитенщик с пояса снял глиняную кружку, ополоснул ее горячей водой, и золотистый сбитень, пахнущий медом и мятой, дымясь паром, журча полился из крана в кружку. К сбитню подана пара баранок. И, Боже, каким нектаром, каким благодатным напитком кажется Алеше эта кружка горячего сбитня!
Только допил — уже телега запряжена и стоит у крыльца, полковник, отдуваясь винным духом и потягиваясь с хрустом в сухих суставах, появляется на крыльце. Садятся, закрываются от пыли холстом.
— Ну, гони, что ли, ямщик!
Дальше, дальше развертывается дорога-жизнь, путь-дорога дальняя… В полдень уехали из Конотопа, а к ночи незаметно отмахали восемьдесят верст, и все было уже совсем не похожее на то, что было в Малороссии.
Синяя степь, балки, поросшие мелким дубняком и боярышником и темными кустами терновника, на южных скатах начинающего зацветать восковым цветом, розовые кусты тюльпанов на лобках холмов остались позади и вправо. Сегодня еще проезжали мимо белых глиняных малороссийских мазанок с высокими и крутыми соломенными крышами, с вишневыми садочками, кое-где начинающими опушаться нежным белым цветом, мимо высоких распятий, окруженных кряжистыми дубами с черными голыми ветвями, простертыми в разные стороны, мимо серых левад из ясеней и серебристых тополей, мимо ставцев с сухими, желтыми, прошлогодними камышами, с чмокающими в тине карасями и ноздревато-серым, в скотских следах, спуском водопоя, мимо так похожего на Лемеши хутора, где дивчины в расшитых рубашках с крепкими ногами, обернутыми шерстяными плахтами, и парни в смушковых шапках и в белых холщовых шароварах, замазанных дегтем, как две капли воды походили на лемешских обывателей, а завтра с утра потянулся дремучий бор. Толстые дубы тесно придвинулись к узкой дороге — куда же ей до широкого малороссийского, степного шляха! — осины трепетали молодыми листами, и Алеша знал, что потому так трепещет и словно дрожит осина, что на ней Иуда, предавший Христа, удавился. В темной дремучей глубине, точно волосы гигантов деревьев, висели увядшие плети ежевики и плюща, сухой бурелом, поросший зелено-серым мхом, лежал в глубине, и желто-коричневый прошлогодний папоротник в своей непролазной гуще словно таил что-то страшное. Уж не медведь ли там был?
Вишневский достал из деревянного футляра пистолеты — ходила в народе молва: в этом лесу «гуляют».
В тесном проезде дороги, заросшей белыми анемонами, куда до самой колеи добежали молодые березки и темные косматые можжевельники, глухо и таинственно позванивали бубенцы. Шагов на полтораста тянулась узкая темная лужа. Ямщик придержал лошадей, и они вошли в нее, осторожно ступая, опустив головы к самой воде, точно стараясь измерить ее глубину. Крупными алмазами летели брызги из-под копыт, колеса с прозрачным тихим журчанием раздвигали воду, железные обода стали серебристо-белыми, грязь и пыль сползли с дубовых спиц. Покряхтывал, покачиваясь на глубинах, кузов телеги, передние колеса ушли совсем в воду, лошади крепко били по мокрым крупам туго подвязанными хвостами. Ямщик обернул щербатое, в рыжих оспинах лицо и сказал, тыча в лес кнутовищем:
— Вот тут они и нападают. Потому, куда ты подашься?.. Глыбко и перевернуться на колдобине оченно даже просто.
Алеша большими, черными глазами в длинных ресницах пытливо оглядывал лес. Жутко и сладко было у него на сердце.
«А ну нападут? — думал он. — Что же, и пускай нападут… А полковник их из пистолета, а я кулаками», — он сжимал красивую, крупную руку с длинными пальцами и морщил брови. Полковник сбоку поглядывал на него и улыбался в темный ус.
— Аи хорош ты, Алеша, — сказал полковник. — В деревне родился, а любой петиметр тебе позавидует — так ты прекрасен. Сколь прекрасна в тебе и богата порода!
Эти слова были непонятны и раздражали Алешу. Не девка же он! Он сильнее хмурил красивые брови и становился еще лучше в дикой, волнующей, первобытной и яркой своей красе.
За лесом, в жалких полях, показалась деревня. Лошадей меняли у въезжей избы, и пока перепрягали, Алеша дивился, как могут так жить люди. В низкой горнице было темно. Узкое окно было затянуто пузырем. Почти всю горницу занимала широкая печь. На ее лежанке, на грязном и смрадном тряпье копошились люди, ребенок плакал в зыбке, подвешанной к жерди, маленький еще, на шатких ногах теленок топтался подле, квочка неподвижно сидела в гнезде, и тут же возились дети в рваных рубашонках — все жило вместе в жидкой и вонючей грязи земляного пола. Полковник не входил в избу, Алеша брезгливо осматривал ее бедное и жалкое убранство. Хозяина не было, лошадей привела хозяйка, за ямщика сел парнишка лет десяти, без шапки, бледнолицый, беловолосый и грязный.
Точно в другое какое государство попали.
«Москали», — думал Алеша, с жалостной жутью посматривая на деревни, которые им попадались. Бедны и унылы были они. Крошечные, криво срубленные избы были одна, как другая — всех поравняла бедность. Они точно вросли в землю. Крупные, прокопченные дымом, они не походили на постоянные жилища людей. Алеше казалось, что стоят они с очень давних времен, с тех времен, о которых Алеша читал в Библии, или с тех, когда нападали на Русь татары. Этих времен не помнит ни отец, ни дед Алеши. И не было садов. Редко где покажется голая топыркая яблоня с бледной, бархатистой зеленью розоватых почек, да на погосте над темными покосившимися крестами несколько плакучих берез свесили к могилам тонкое кружево голых ветвей.
Вдруг увидал Алеша за деревней толпы людей. За темным садом, окруженным высоким частоколом, черный, замшивевший, с волоковыми узкими окнами, с крутой, ободранной тесовой крышей, с обвалившейся прогнившей резьбой, необитаемый догнивал боярский терем. Народ подле копал пруд, и за стройными прямыми аллеями молодых, недавно посаженных деревьев, в лесах стоял новый, причудливо выстроенный, низкий и длинный, одноэтажный дом. В окнах блистали стекла, оранжереи и парники отражали солнечный свет.
Через толпы рабочего народа ехали шагом. Алеша видел, как мужик в коричневом азяме стал на четвереньки, на спину ему положили план, и немец большим циркулем размечал по нему. От толпы отделился человек в старом, потрепанном солдатском кафтане и треугольной черной шляпе. Он, широко шагая и размашисто по-солдатски махая руками, подошел к телеге и, скинув с головы шляпу, сказал:
— Дозвольте, ваше благородие, просить милости подвезти меня до деревни Собакиной. Аз есмь ефрейтор Ладожского полка Семен Мурлыкин.
— Садись, — сказал Вишневский. — С здешних мест?..
— Господ Забелиных бывший крепостной.
— Все строитесь?
— И не приведи Бог, чего замышляем, — усаживаясь лицом к Алеше и Вишневскому и спиной к лошадям, сказал Мурлыкин. На его худощавом, темном, скуластом лице, в самых углах губ чуть скользнула насмешливая улыбка. — Вишь, новую какую Расею немцы строят. Господам — хоромы, а рабам — могилы… Да что, ваше благородие… Я сам походы ламывал, фельдмаршала Минихова, вот как тебя зараз вижу, видал. Ему что! Русские люди для него прах!.. Вышли мы, знашь, в степь пустую, и стал тот Минихов расейских людей перебирать, штаб- и обер-офицеров штрафовать, в солдаты без суда писать, а самых старых и заслуженных полковников перед фрунтом армии под ружьем водить, а все за безделицу: увидит, понимать, у офицера галстух не белый или что сам он, знашь, не напудренный, а в степи, сам понимать, кому на это смотреть?.. Петра Великого законы стали уничтожать — сам понимать, какое это дело выходит!.. Провианту у нас ничего уже не стало. Люди стали ослабевать и с голода помирать. Минихов ни на что не смотрит. Хотя мертвых старых солдат перед собой видит, никогда никого не пожалел, ибо не его то крестьяне и не с его деревни взяты, а российских дворян он ни одного в свойстве даже не имеет, так чего же их жалеть!..