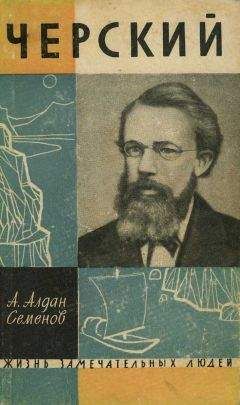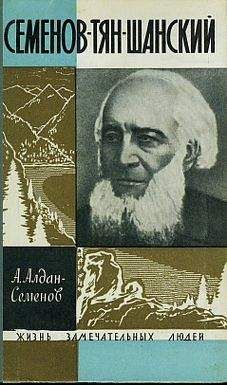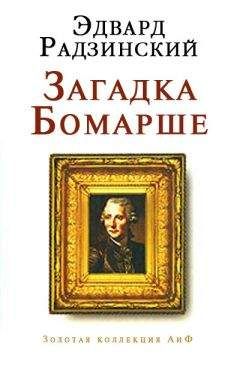Эдвард Радзинский - Загадки любви (сборник)
Он бросил письма в ящик стола и закрыл его.
– За равнодушие мстят!
Он засмеялся, встал, показывая, что встреча закончена, и проводил меня до дверей. Когда я вышел на лестничную клетку, он вдруг спросил меня:
– Вам не приходило в голову – как Дон Жуан протягивает руку Командору?
И он показал.
Он был великим актером. Я навсегда запомнил бесконечную фигуру в провале двери, свет тусклой лампочки из коридора… Как он тянул в пустоту руку и как менялось его лицо! Сначала на нем было любопытство, потом вызов, а потом страх, слепящий ужас – ужас смерти… Опаленное лицо с мертвыми глазами… И он захлопнул дверь.Я шел по улице. Горели фонари, падал тихий новогодний снег, и я банально шептал строки:
Но кто мы и откуда,
Когда от всех тех лет
Остались пересуды,
А нас на свете нет?
Конец одного стихотворения
Зина Пряхина из Кокчетава,
словно Муромец, в ГИТИС войдя,
так Некрасова басом читала,
что слетел Станиславский с гвоздя…
Зину словом никто не обидел,
но при атомном взрыве строки:
«Назови мне такую обитель…» —
ухватился декан за виски.
И пошла она, солнцем палима,
поревела в пельменной в углу,
но от жажды подмостков и грима
ухватилась в Москве за метлу.
Стала дворником Пряхина Зина,
лед арбатский долбает сплеча,
то Радзинского, то Расина
с обреченной надеждой шепча…
Зина Пряхина из Кокчетава,
помнишь – в ГИТИСе окна тряслись?
Ты Некрасова не дочитала.
Не стесняйся. Свой голос возвысь.
Ты прорвешься на сцену с Арбата
и не с черного хода, а так…
Разве с черного хода когда-то
всем народом вошли мы в рейхстаг?!
Евгений Евтушенко. Размышления у черного хода
Она вошла в ванную.
Съела таблетки перед зеркалом.
Запила водой из-под крана.
Потом вернулась в комнату,
легла на ковер у кровати
и стала ждать.
Это и был – конец стихотворения, Женя.
Три дня и три ночи
ее пытались спасти.
Но она правильно все рассчитала —
она работала медсестрой.
Три пачки димедрола плюс четыре пипольфена,
и девять часов до того,
как пришла с работы подруга…
А потом наступила ночь тринадцатого января,
и люди, которых она в записке
просила «никого не винить в своей смерти»,
сидели за столиками в ресторанах
и сыто и пьяно провожали Старый год,
чтобы потом, во тьме постелей,
прижавшись телами к другим телам,
благополучно доплыть до конца новогодней ночи…
А в это время ее обнаженное тело
лежало в беспощадном свете мертвецкой
и безумный голос ее подруги
орал в замерзшую трубку:
«Как она?»
И мужской голос – сумрачно и сухо:
«Такие данные не сообщаем по телефону».
Действительно!
Зачем тревожить сограждан «такими данными»?
Засекретим смерть,
и пусть у нас всегда торжествует жизнь,
как в конце твоего стихотворения, Женя…
Вчера я встретил ее
в первый раз – после ее смерти.
На дачной эстраде танцевали девочки.
Я узнал ее сразу —
она танцевала последней.
Кровавые пятна носков для аэробики,
ураган волос а-ля Пугачева…
Шаровая молния в конфетной обертке!
Балдели дачные мальчики
с теннисными ракетками, на складных велосипедах.
И голос матери, нарочито громкий:
«Будет артисткой!»
Все это происходило под Москвой,
а совсем не в Кокчетаве,
где еще верят, что «в артистки»
надо ехать в Москву
и завоевать талантом сияющую столицу,
как в конце твоего стихотворения, Женя.
Она поехала…
Вчера я встретил ее на улице.
Она только что приехала в Москву
и шла в ГИТИС,
или в «Щуку», или в «Щепку», или во МХАТ.
И это было нашим вторым свиданием
после ее смерти…
…Ковер, на котором она лежала…
Она вошла во двор
и прочла объявление:
«Абитуриентов прослушивают в тире».
Маленькая головка на теле Венеры,
точеные черты Натали Гончаровой
и волосы, перехваченные черной ленточкой…
Пушкинская красавица в хипповой диадеме!
О, как она орала в тире:
«Я – Мэрлин!.. Я – героиня
самоубийства и героина!»
Молодые режиссеры широко улыбались
и слушали стихи Вознесенского
про самоубийство Мэрлин Монро.
(О, как она им нравилась!)
И «сам» широко улыбался —
эта красавица, полная сил и здоровья,
что она знала про самоубийство?
Про самоубийство и героин?
(О, как она ему нравилась!)
«На обороте у мертвой Мэрлин…»
Она победно вышла из тира.
И жались к стенке,
стараясь не глядеть на нее,
жалкие соперницы.
«Звезда абитуриентуры» —
так ее назовут
после трех лет ее поражений,
когда она узнает, каково вглядываться
в тускло напечатанные списки принятых,
а потом кружить вокруг канцелярии
со сводящей с ума надеждой —
а вдруг пропустили?
А вдруг пропустили ее фамилию?
Такую смешную фамилию…
И режиссер, который набирал этот курс,
которому она так нравилась тогда в тире
во время отстрела юных дарований,
не объяснит ей,
что такое звонки по телефону,
сводящие с ума звонки по телефону —
звонки знакомых и родственников,
звонки сподвижников и сподвижниц по театру,
звонки из вышестоящих организаций,
звонки из нижестоящих организаций,
звонки с просьбой об элементарной человечности,
звонки с угрозами и истериками,
звонки с проклятьями и воплями…
И он положит ее смешную фамилию
на алтарь этих звонков,
как жертвоприношение
во имя того человеческого,
которое всем нам так не чуждо.
В конце концов,
на алтарь и следует положить
самое прекрасное…
А вместо нее выберут кого-то
из этой толпы «позвоночных» дурнушек,
которых сейчас она так презирает.
Возьмут некрасивую дочь красавцев родителей
(природе нужен отдых)…
О, бездарные отпрыски кумиров,
сводивших с ума в шестидесятые!
Ваши знаменитые фамилии
никогда не уйдут с нашей сцены!
И профессия актера
скоро станет у нас наследственной,
как в древней Индии…
…Ковер, на котором она лежала…
Но это все еще впереди,
а пока она идет по московским улицам —
победительница первого тура ГИТИСа,
а может, «Щепки», или «Щуки», или МХАТа.
Идет Актриса!
А всего через две недели…
Ох, как они забегают всего через две недели —
отвергнутые возлюбленные театра!
Разговоры в отчаянии:
«Сказали – есть места в Институте культуры…»
«Набирает дополнительно Воронежское училище…»
«Говорят, недобор в Ленинграде, в Эстрадном…»
И, только намаявшись,
наскитавшись по столицам и весям,
они дадут телеграммы – крики о помощи —
и, получив переводы, отъедут навсегда
в свои тихие городки…
Но отъедут слабейшие.
Актрисы останутся.
Здесь самое место выйти музыкантам,
например, из джаз-рок-ансамбля «Арсенал»,
и пусть золотая железка Алеши Козлова
сыграет нам что-нибудь
про вечную надежду
вместо того, чтобы рассказывать,
как они устроились дворничихами по жэкам,
воспитательницами по яслям,
работницами по прачечным,
нянечками по инвалидным домам и больницам —
повсюду, где дефицит в рабочей силе,
продолжая грезить (саксофон),
продолжая мечтать (бас-гитара),
как они вернутся летом в стрелковый тир,
чтобы снова и снова тщетно бросаться на шею
капризному возлюбленному – театру (синтезатор).
(И прости за безвкусные строки…)
А пока они ходят вечерами
в самодеятельные театры-студии,
где они пройдут
школу жизни настоящих актеров,
научатся курить,
отрежут косы,
и…
Скучно повторять эту банальную историю.
А те, кому совсем повезет
(совсем-совсем повезет),
познакомятся с посетившим случайно студию
настоящим режиссером.
Знаменитым настоящим режиссером.
Ах, какое это удачное знакомство:
«Он меня увидел и сразу все про меня понял…
Он сказал: «Вы – моя актриса.
Через год я буду набирать себе курс…»
Самое смешное, он это действительно сказал.
А потом ее сборы на свидание,
лучшие из туалетов ее подруг:
Маринины шерстяные носки,
Динина юбка
и ломовая кофта Насти,
которую Настя взяла поносить у Веры
из студии «У Никитских».
По дороге
она останавливается у всех афиш его театра,
она читает его фамилию,
замирая от букв его имени…
И люди рядом читают.
(Глупцы, они не знают…)
«Я у вашего дома,
я только не знаю куда,
вы забыли сказать…»
Его квартира.
Афиши, афиши, афиши его театра…
Холод и дрожь, когда раздевают,
и страх показаться неопытной…
Потом его бегство в ванную,
и вот уже (какой он старый!)
старый человек прощается с нею
осторожно и мило:
«Звони в театр, прямо в кабинет».
Но телефон не дает.
И она ходит под освещенными окнами,
где старый мальчик, наигравшись вволю,
укладывается вовремя спать.
Старый мальчик, не хуже и не лучше других,