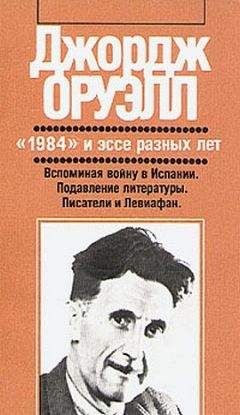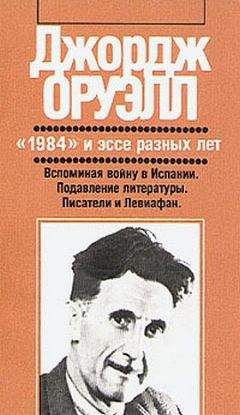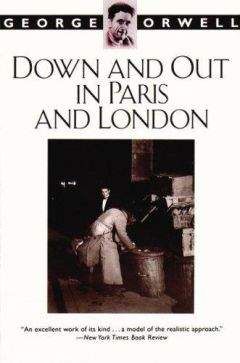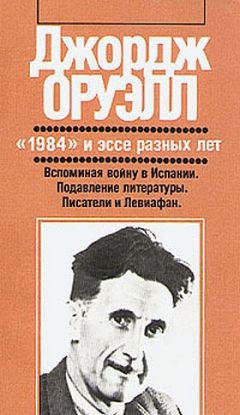Станислав Калиничев - Невенчанная губерния
Брата назвали Филимоном в честь деда по матери, который в нём души не чаял, а мать, когда у неё после нескольких дней чёрной меланхолии наступал прилив сил и поднималось настроение, готова была ему, как говорят, ноги мыть и воду пить. «Ангел наш мироносный» — называла она Фильку.
Однажды приказчик рассказал Ивану, что старик Филимон Огрызков помог Власу Егорычу выкупиться из барской неволи. Так что его зятем Софьян Собачий стал не случайно, тем более, что про дочку, единственное чадо Огрызкова, ходили слухи, вроде бы она временами «бывает у бога». Приятная во всём остальном, довольно миловидная, мать и не скрывала, что ей иногда «бывают голоса», что однажды сама Пречистая Дева поманила её пальцем из угла, а потом вышла — и двери не притворила.
После того, как Влас Егорыч обвенчался с нею и получил приданое, он приказал Огрызкова и на порог не пускать и вообще с её роднёю не захотел знаться. Лишь по прошествии нескольких лет купцы нашли более выгодным примириться, а Влас Егорыч второго сына своего назвал в честь тестя Филимоном.
Обо всём этом Иван узнал, уже будучи взрослым парнем, во время бесконечных разъездов, которые совершал с приказчиком, а потом и в одиночку. Лет с семнадцати ему уже доверяли не только товар, но и наличные деньги.
Вот в одну из таких поездок молодой купчёнок попал в Боровуху. Надо было завезти местному помещику образцы товара — тот передавал, что задумал сделать новую обтяжку мебели. Заодно отец просил его наведаться к Фаддею Шестипалому — барскому егерю. Власа Егорыча он интересовал, конечно, не тем, что хорошо знал повадки лесного зверя, а своим умением очень аккуратно, как чулок, без единого подреза снять шкуру с любого животного. Так же хорошо умел и сберегать товар. Поэтому в селе — издохнет ли у кого кляча или надо убить вола, режут ли к празднику телка или козу — Шестипалый тут как тут. Он покупал товар ещё тёплым и предпочитал снимать шкуру сам.
Крестьянин в доме умел любую работу, и если случалось убивать скотину, сам же её и свежевал. А шкуру продавал обычно местному лавочнику или цыганам. Но не в Боровухе. Тут этим занимался Фаддей, и конкурировать с ним было трудно: если он снимал и засаливал шкуру, то за неё можно было взять хорошую цену.
— А я тя, мил купчёнок, заждался! Уж думал, не свезти ли мне товар в Ряжск?
— Забаущий ты мужик, Фаддей! Степан, наш приказчик, чай по весне тут был.
— Ну да! На самое заговенье. Откуда же взять шкуры после великого поста? А как уехал приказчик — тут тебе и ранняя Пасха, и самая бескормица — до зелёной травы ого-го ишшо сколько терпеть! Вот и пошла скотинка под нож.
Фаддей пригласил в избу, угостил липовым чаем, его баба подала пирог с земляникой. Хоть Иван и обедал у помещика — в людской, вместе с управляющим, с которым и вёл переговоры, но у Фаддея от чаю не отказался. Без этого — какой торг? А без торга — не сделка. Для мужика самое удовольствие поторговаться. Тут он расскажет и почему «себе дороже», и с каким трудом добывал товар, а о самом товаре такое наговорит… Начав про шкуру, расскажет и про кобылку, которой она принадлежала: какая была умная да работящая. Настоящую цену каждый держал в уме, и разницы в их окончательных ценах большой не было, но договориться сразу — значит испортить всё дело. Выходило бы, что ни продавец, ни покупатель ничего не выторговали.
Однажды купчёнку, который сразу назвал оговоренную отцом цену и больше ни с места, один мужик с обидой сказал:
— А ты чаво, милок, не торгуисси? Обидно даже. Мы ить не на большой дороге: один отнял — другой отдал.
В той, своей первой жизни Иван многому научился. Он сидел с Фаддеем за чаем, выслушивал, с какими трудами тот добывал товар, рассказывал ему о своих заботах, о последней «ярмонке» в Нижнем… Дважды они поднимались, чтобы пойти и ещё раз просмотреть товар, когда вдруг услыхали какую-то возню в сенях. Иван поднял голову и увидал на пороге девицу лет семнадцати — мелкокостную, хрупкую, ещё не успевшую осознать своё повзросление. Войдя со света в полутьму избы, она таращила невидящие глаза, полные слёз.
— Чаво тебе, Явдокея? — спросил хозяин.
Она как во сне повернулась на голос Фаддея и дрожащими губами произнесла:
— Бу… Буня пала.
Что-то произошло. Душевное смятение вошедшей передалось Ивану. Он видел её всю, пронизанную солнцем в дверном проёме — от босых ног на соломенной подстилке до слившихся на переносье, выгоревших бровей. Видел больше, потому что, кроме домотканой, ниже колен, рубашки, на ней ничего не было. Какие-то мгновения она была перед ним вся, как мятущийся в бреду ребёнок. Её глаза, набрякшие слезами, не замечали, что в избе есть ещё кто-то.
Фаддей огорчительно крякнул и матюгнулся, как пролаял. Даже его, сельского живодёра, которым пугали не только детей, но и скотину, задело её горе.
— Вам ишшо не хватало… последнюю коровёнку загубить. Их!..
И опять выругался. Но его брань не дошла до неё. Скопившиеся в глазах слёзы пролились на щёки, словно пелена спала, и взгляд остановился на Иване. Он потом всю жизнь помнил этот взгляд. Как во сне поднялся с лавки навстречу…
— Пошли, Фаддей. Я куплю эту шкуру. А тебе за работу…
Иван поднялся и шагнул к двери. Девчонка попятилась и всё смотрела на него. Он тоже рассматривал её, стыдясь этого, но не мог отвести взгляда. Когда вышли, остановились посреди двора, ожидая замешкавшегося Фаддея.
— Ты… это, — осевшим голосом сказал Иван, нарушая тяжёлое молчание. У него от непонятного волнения язык присох к нёбу. — Отчего корова-то пала?
— От яду, должно быть, от яду, — машинально, как заученно, ответила она. — Буняша работящая была, старательная. Другая два раза травку шшипнёт, а она три успевает. Вот и съела, должно быть, паука.
Он потянулся рукой к её плечу, как будто своим прикосновением хотел успокоить боль. Девушка испуганно свела руки на груди, но не отступила.
— Как зовут-то тебя?
— Евдокея…
— Дуня… Господь милостив, — искренне веря в то, что говорит, произнёс он и почувствовал, как сдавило сердце, вроде бы взял на себя часть её горькой ноши.
Девушка поняла это движение его души. Склонив голову, прижалась, как щенок, подбородком к его руке и расплакалась.
Вышел Фаддей. Всё дальнейшее расплывалось в памяти Ивана. Они прошли через дорогу в разорённый двор с кривобокой избой. За хлевом, на чистой соломе лежала корова с перерезанным горлом. (Чего не придумает бедность! Считалось, что если погибающее животное убить — хотя бы на последнем его вздохе, — то мясо можно есть. Всё же зарезали, а не издохло. Главное — поганую кровь выпустить). Всклокоченный мужик-хозяин, обросший рыжей бородой, как мохом, затравленно смотрел на пришедших.
— За шкуру Иван Власыч плотит, — угрюмо сказал ему Фаддей и остановился, разглядывая скотину.
Прижимаясь к бревенчатой стенке избы, стояли двое голопузых мальчишек, лет десяти и двенадцати, в дверях пустого хлева, закусив уголок линялой косынки, стояла босоногая баба.
— Лучше б ты, Фаддей, с кого из нас шкуру-то взял. Всё равно подыхать с голода, — махнул рукой хозяин.
Фаддей обернулся, зло зыркнул на него, увидал, как Иван дрожащей рукой достаёт из бумажника деньги — и раньше всех понял, что происходит.
— Не ной, смерд, ишшо пожалеешь. Бери деньги-то, покеда Иван Власыч не передумал.
Мужик со страхом посмотрел на ассигнацию, протянутую ему и, ещё не веря, что над ним не смеются, покачал головой:
— Я ить не душу продаю.
— Бери, а то передумаю.
Мужик взял бумажку и, неся её перед собой, пошёл в избу. Иван обернулся к девушке:
— Проводи меня до Фаддея. Я там его подожду. И тебе не надо глядеть на его работу.
Они вышли из-за хлева. У двора, отделённого от улицы почерневшими жердями, стояли в суровом молчании какие-то бабы, возле них возилась ребятня. Соседи и любопытствовали, и сочувствовали. Дуня, опустив голову, семенила босыми ногами рядом с ним. Дойдя до ворот Фаддеева подворья, остановилась. Ей надо было возвращаться.
— Мне во двор заходить неохота, — засмущался Иван, — постой тут со мною у воротнего столба, — и попридержал её за руку.
Она вдруг прижалась лицом к его рукаву и расплакалась. Её как прорвало. Давясь слезами, срывающимся голосом говорила:
— Ой, пропадём мы, всё одно пропадем! Так не бывает. Это Фаддей всё устроил. Оборотень он… Шестипалый… Для ча у него шестой палец на руке? И бумажка твоя сгинет. Он нею тяте глаза отвёл… Да?
Иван и без того был возбуждён до крайности. На него накатило унаследованное, очевидно, от матери «воображение» — как приступ горячки. И когда девушка запричитала на его плече, схватил её за руку и, весь дрожа, стал убеждать:
— Дуня, успокойся. Дуня, не плачь. Шестипалый — мужик не дурной. Это его промысел от людского горя идёт. И я не шшезну… Слышь… Душаня, ишшо приду к тебе. Добро? Не дам я тебе пропасть.