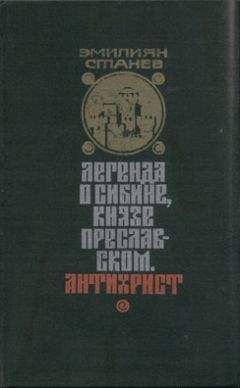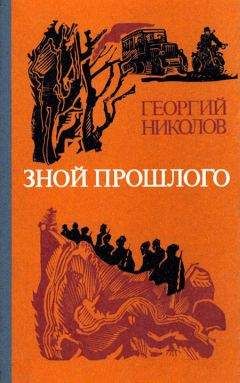Эмилиян Станев - Иван Кондарев
— Ты видел от меня и добро, Лазо. — Костадин прижался спиной к окну, чтобы следить за движениями обоих. Тесть его убеждал того, который первым появился в тени домика:
— Погоди, парень, дай подойти к нему! Разберемся сначала: что вы задумали делать?
— Каждый експлотатор вроде тебя считает, что он делает добро. Кормлю тебя, говорит, одеваю… А ведь и у вола была сила работать на тебя. Да только вол молчит, не может заплакать, а сколько я горьких слез пролил еще с детских лет и сколько тумаков получил от таких, как вы, живодеров!.. Ты знаешь, как я корчился от холода в этой хибарке, как скулил, словно пес? Может, ты считаешь, у меня и души-то нет? Твоим собакам живется лучше, чем мне, разве нет? Гончим твоим!.. Я из-за вашей експлотации тут, как дикарь, три года прожил. Всё выжимки варил, и осенью и зимой варил, так что весь провонял, даже душа моя провоняла ими, чтоб вы могли продавать ракию бочками, денежки копить… Как есть нечего, выпью, бывало, ракии да и спать завалюсь, потому что голодный да холодный не больно заснешь… Ты меня левольвером стращал, брат твой на меня штраф налагал. За пятьдесят левов да пару царвулей я шесть месяцев от зари до зари вкалывал, так?.. А теперь вот пришел ваш час расплаты, кулачье отродье!.. Чего молчишь?
— Не ты один — батрак на свете, — тихо сказал Костадин, продолжая оглядываться на обгоревший навес, откуда рвался к нему тесть.
— Спокойнее, старик, чего брыкаешься, как козел, — пробурчал второй мужик. Собачонка тявкала неуверенно, не зная, на кого лаять.
— Нешто не знаю, куда ты гнешь? В пример мне Янаки поставить хочешь… Он дурак, не понимает, в чем его интерес. Вы ему там задурили голову подачками с барского стола. У-у, кулацкая порода! Даже господа бога на свою сторону перетянули. — Лазо завертел головой. — Если ты христианин, бай Коста, чего ж не подумал и о моей батрацкой правде, а знаешь только свою, експлотаторскую?
— Брось ты этот кол, не тычь мне в лицо! — закричал Костадин, чувствуя, что речи Лазо начинают смущать его оцепеневший, и без того уже запутавшийся разум. «Значит, народ действительно восстал и правительство свергнуто… Конец нам пришел… Вот что означал мой сон: буйвол… Но какая правда может быть у этого скота? Как может он быть прав? Неужели я сам был не в состоянии понять это? Да, я даже не задумывался над этим», — продолжал терзаться Костадин, отыскивая какой — нибудь выход… На стекле окна заплясали огненные блики — отражение далекого пожара. Какой-то сверчок, словно обрадовавшись нежному румянцу стен, бодро и звонко запиликал, и его беззаботный голосок пронзил душу Коста дина гнетущим ужасом и мукой.
— Пусти меня, Лазо, не мучь! Не унижай перед тестем! — крикнул Костадин и попытался подойти к двери.
Лазо ударил его колом в грудь, а чумазый парень молча навел на Костадина свой манлихер.
— Стой смирно! Потерпи, я еще не все сказал… Значит, не унижать тебя, так? Ты меня можешь топтать, а вот я тебя даже… Да что с тобой говорить, живоглот!
Что я, торговаться с тобой буду?.. Ну-ка, скажи, бай Коста, помнишь, как ты бил меня в казарме? Помнишь, как я тебя молил, как ноги твои целовал, а ты — бах! бах! — палкой по спине, хоть спина моя тогда была скорее на рубленое мясо похожа! Ноги тебе целовать, да? Задарма на тебя работать, мать твою так!.. — Лазо перекинул ружье через плечо и поднял кол.
«Только бы прорваться внутрь! Господи, помоги!» — с надрывом воскликнул про себя Костадин, увидев вдруг, как отдаляются от него жена и будущий сын. Он кинулся на батрака прежде, чем тот замахнулся на него колом, и ударил его кулаком в лицо. Лазо покачнулся, но устоял. Костадин бросился к двери. Чумазый прохрипел «х-х!», как при рубке дров, и, замахнувшись манлихером, ловко ударил Костадина по голове. Костадин согнулся и упал на колени перед порогом, но тут же вскочил и, как пьяный, ухватился за раму двери.
— Назад! — дико закричал Лазо и прижал к плечу ружье. Новый тупой удар повалил Костадина навзничь. Хватаясь руками за воздух, он катался по земле и, перевернувшись на спину, увидел, как сияющее над ним небо рухнуло и яркая, зловещая луна потонула в непроглядном мраке…
Бай Христо закричал и выхватил из колоды топор. Чумазый метнулся к винограднику, но тотчас опомнился и выстрелил. Пуля пробила толстую шею бондаря и свалила его у костра. Бай Христо долго хрипел и рыл сильными ногами растрескавшуюся землю, пока наконец не угасла крепко засевшая в нем жизнь.
Приблудная собачонка завыла. На побеленных стенах сторожки, как веко огромного глаза, подрагивало багровое отражение пожара, и там, вдали, среди холмов и ложбин, где притаились села, словно спеша первым сообщить небывалую весть, торжественно и радостно-тревожно ударил колокол…
19Телеграфная и телефонная связь с Горна-Оряховицей была прервана, отряд провоз глас ил рабоче-крестьянскую власть в Минде и лишь в восьмом часу вечера тронулся прямиком через леса к К. Сорок пять человек, в основном из Выглевцев и Симанова, нагруженные боеприпасами и продовольствием, утомленные походом и бурным победным весельем, из последних сил взбирались по крутым тропам; они то и дело просили устроить привал, и многие засыпали, едва успев опуститься на землю. Ванчовский беспокоился, что они не поспеют вовремя прибыть в город, тормошил то одного, то другого, подбадривал, бранился. За четыре часа отряд одолел предгорье, при свете луны спустился по крохотным нивам меж каких-то хибарок и, как полуживая сороконожка, выполз из дремлющего букового леса к последнему холму. С вершины его открылась вся долина, в которой лежал спящий город, окутанный легкой дымкой. Вдали, у самого горизонта, как бы растворяясь то в синеватом, то в желто-зеленом сумраке, светились голые вершины Балкан. Был уже час ночи, и яркая ущербная луна словно бы плескалась в золотой амальгаме.
Ванчовский устроил привал и сел на полянке рядом со своими. Вытащив из футляра военный бинокль, он принялся изучать местность. Сквозь мощные линзы он рассмотрел притаившиеся, слабо освещенные казармы, заметил, как в одном из окон появилась какая-то фигура и тотчас скрылась за опущенной занавеской. Смутно вырисовывались конюшни, плац, колья ограды, но ни патрулей, ни караульных постов он разглядеть не мог.
Знают ли уже здесь о судьбе ударной группы и, если знают, послана ли новая воинская часть в Миндю? Он стал глядеть в сторону станции. Здание вокзала прикрывали ивы, растущие по краям шоссе, виден был только семафор, горящий, как рубин. Ванчовский никак не мог вспомнить, входила ли станция в план Кондарева, и это злило его. Он не одобрял тактики комитета действия и считал ее пагубной. Вместо того чтобы сосредоточить все силы у казарм, а затем уже свергать власть в селах, все делалось как раз наоборот. Зачем? Ведь если они справятся с гарнизоном, кметы и стражники сами сдадутся. Комитет рассчитывал, что в городе будет действовать повстанческая рота из трех взводов. Она должна была взять штурмом околийское управление и вместе с сельскими отрядами атаковать казармы. Но Ванчовский не верил в ее существование. Что же касается сельских отрядов, он был убежден, что те потратят много времени на захват своих общин, на ликование и прочие пустые дела, прежде чем отправятся в город. Так случилось и сегодня с его отрядом в Минде. Изголодавшиеся, опьяненные победой люди, после того как наелись, плясали хоро, бурно обсуждали свою победу, потом набивали свои мешки и торбы про визией и теперь, осоловевшие и изнеможенные, не в силах были даже шевелить языком. Комитет действия легкомысленно недооценил гарнизон, считая, что тот капитулирует, как только его подержат в осаде. «Детские рассуждения», — злился Ванчовский, рассматривая в бинокль спящий город, такой знакомый и волнующий. Тут он закончил гимназию, в этих казармах служил, отсюда отправился на фронт, потом впервые влюбился… Здесь он постиг и причины крестьянской обездоленности и нищеты. Теперь же из этого самого города его бывший полковой командир посылает команды карателей за его головой!
Легкий ветерок что-то шепнул ему на ухо и разнес запах лежащих рядом людей — запах пота, земли и голода, которым пропитался и он сам. Одни дремали, положив головы на свои до отказа набитые торбы, раскинув обутые в царвули ноги, другие спали, свернувшись калачиком, как дети. Взгляд его остановился на карлике Моско. Тот лежал, сжавшись в комочек, прикрытый, словно щитом, большой черной шапкой, и сжимал меж колен свой длинный манлихер. При виде односельчанина воображение Ванчовского тотчас же воскресило одну из картин войны: на такой же голой поляне во время майского наступления на Яребичну лежал целый взвод, скошенный минометным и пулеметным огнем. Они собрали трупы, чтобы похоронить их в братской могиле ночью, потому что днем англо-французские батареи обстреливали даже глубокий тыл…
За два месяца, проведенных в отряде, он словно потерял счет времени, его то и дело одолевали воспоминания войны, заслоняя память о мирной жизни, поблекшей, как поблекли его идейные взгляды и мечты. Сердце его ожесточилось, ум стал недоверчив, и мыслил он теперь по — волчьи, по душе пришлась ему гайдуцкая жизнь. Он поглощен был одним — как сохранить свой отряд! Сознание отравляла оторванность от других, зависимость от городского комитета действия и от людей, руководящих восстанием по всей стране. Он научился не верить голым обещаниям, жить собственным умом и, как зверь, слушаться собственных инстинктов. Благодаря этому за два месяца отряд не понес почти никаких потерь, несмотря на то что подвергался постоянным преследованиям. После встречи с Кондаревым Ванчовский, изучив план, отправил своих людей в села Рогозино и Ганьовцы, чтоб сколотить там отряд, который этой ночью, пробравшись по долине реки, должен был занять позицию в винограднике за казармами.