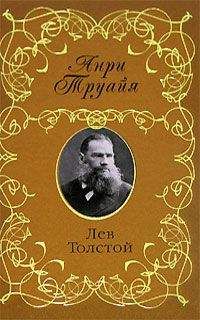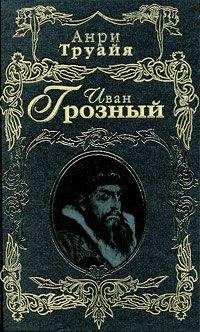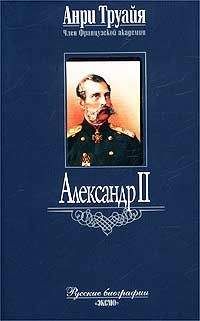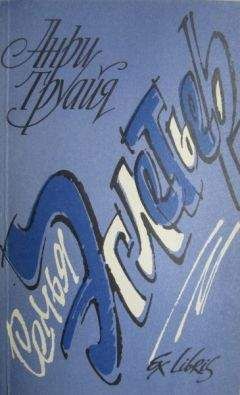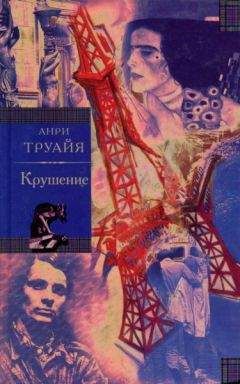Лев Толстой - Труайя Анри
Когда все было сделано, начальник станции, Душан Петрович и Варвара Михайловна вернулись за ним. Поддерживаемый Сашей и Маковицким Лев Николаевич еле шел – покачивался, почти висел на их руках. Публика на вокзале расступалась, склоняли головы, приветствуя его. Писатель отвечал на поклоны, дотрагиваясь до шляпы. Озолин выделил больному гостиную, в которую поставили железную кровать. Когда Толстого, мысли которого путались от жара, укладывали, ему вдруг показалось, что он в Ясной, и разволновался, не увидев знакомых предметов: «Я не могу еще лечь, сделайте так, как всегда. Поставьте ночной столик у постели, стул…»
Когда его просьбу выполнили, лег, но потерял сознание, начались судороги. Потом заснул. Наутро температура спала, и Лев Николаевич решил продолжать путь. Продиктовал Саше телеграмму для Черткова: «Вчера захворал, пассажиры видели, ослабевши шел с поезда, очень боюсь огласки, нынче лучше, едем дальше, примите меры, известите». Но все же был слишком слаб и сам понимал это. Саша убеждала повременить, спросила, дать ли знать семье, если болезнь окажется продолжительной. Отец пришел в ужас при мысли о встрече с сыновьями, умолял хранить место своего пребывания в тайне. «А Черткова я желал бы видеть», – тихо добавил он.
Саша немедленно телеграфировала Владимиру Григорьевичу: «Вчера слезли в Астапове, сильный жар, забытье, утром температура нормальная, теперь снова озноб. Ехать немыслимо, выражал желание видеться с вами».
Так как Толстому стало явно лучше, он позвал дочь, чтобы продиктовать ей для дневника свои мысли о Боге, пришедшие ночью. Голос его был хриплым, дыхание тяжелым: «Бог есть то неограниченное Всё, чего человек осознает себя ограниченной частью. – Истинно существует только Бог, человек есть проявление Его в веществе, времени и пространстве».
Потом решил написать Тане и Сергею, его мучило, что они могут подумать, будто он не хотел известить их о своей болезни:
«Надеюсь и уверен, что вы не попрекнете меня за то, что я не призвал вас. Призвание вас одних без мамы было бы великим огорчением для нее, а также для других братьев. Вы оба поймете, что Чертков, которого я призвал, находится в исключительном по отношению ко мне положении. Он посвятил свою жизнь на служение тому делу, которому и я служил в последние 40 лет моей жизни. Дело это не столько мне дорого, сколько я признаю, ошибаюсь или нет – его важность для всех людей, и для вас в том числе… Прощайте, старайтесь успокоить мать, к которой я испытываю самое искреннее чувство сострадания и любви».
Подписал дрожащей рукой, прошептал: «Ты передай им это письмо после моей смерти», и заплакал.
Приходил Озолин, Лев Николаевич поблагодарил его за гостеприимство и рассказал о своей семье. Иван Иванович уступил Толстому две лучшие комнаты, в соседней с ними, крошечной, его собственные дети громко пели и смеялись. От чистых голосов, веселой, незатейливой песенки становилось еще грустнее, так контрастировала эта беззаботность с подавленным состоянием Саши, Маковицкого, Варвары Михайловны.
Льва Николаевича детская суета забавляла, и он уже собирался сказать, что чувствует себя лучше, как вновь начался озноб: температура поднялась до 39,8, голова раскалывалась, шумело в ушах. Маковицкий и служивший на вокзале доктор выслушали хрипы в левом легком, начиналось воспаление легких, больной сильно кашлял. Перед грозящей отцу опасностью Саша решила не следовать его просьбам и телеграфировала Сергею, чтобы он немедленно ехал в Астапово с доктором Никитиным. В ночь на второе ноября никто не спал: сердце Толстого билось с перебоями, дышал он с трудом, мучила жажда. Утром сам посмотрел на градусник, температура не спадала.
Пока Саша ухаживала в Астапове за отцом, в Ясной Поляне врач-психиатр и медсестра, вызванные Сергеем, не отходили от Софьи Андреевны, которая в горе отказывалась принимать пищу. «Только еще тяжелее эти чужие люди, а дети хотят снять с себя ответственность», – отмечает графиня в дневнике. Первого ноября к ней пришел священник, она исповедалась, причастилась и, наконец, поела – из опасения, что не будет сил добраться до мужа, если он вдруг заболеет. В то же утро пришло письмо, отправленное им из Шамордина, письмо несправедливое, но это был его почерк, частичка его самого! После четырех дней полного молчания первая весточка. И сразу села за ответ: пусть он не боится, что жена немедленно отправится за ним – слишком слаба для этого, к тому же ей противно любое принуждение – и потому оставляет за мужем право поступать, как ему угодно; его отъезд – тяжелый урок для нее, и если они еще увидятся, постарается сделать мужа счастливым; но что-то подсказывает ей, что больше они не увидятся; она умоляет его вспомнить о своей любви к ней, тогда он увидит в ней ту же любовь; заклинает Льва Николаевича заботиться о здоровье; Бог да хранит его.
На следующее утро Софья Андреевна пишет еще письмо, пытаясь оправдать любовью к нему распри, его окружавшие: если наблюдала за ним, когда он по вечерам раскладывал пасьянс, если садилась верхом, чтобы повстречаться ему во время прогулок, если вбегала в залу, когда туда входил муж, то делала все это не из подозрительности, а от любви с нему; каждый день хотела сказать, что согласна на его встречи с Чертковым, но стеснялась вторично давать ему хоть какое-то разрешение; он же становился все мрачнее и печальнее, не замечал ее присутствия, протягивал другим свою чашку, прося чаю или воды, избегал обращаться к ней… Продолжая, графиня приходит к обстоятельствам ночи двадцать восьмого октября, когда Левочка ушел. И здесь только жалкая ложь выходит из-под ее пера: у нее была нелепая привычка на ощупь проверять, на столе ли дневник, и делала это обычно потихоньку; но в ту злополучную ночь зашла в кабинет, чтобы положить письма, и смахнула тетрадь рукой; не рылась, ничего не искала, ничего не читала, но в тот же миг осознала, что совершает ошибку и глупость… Она предвидела его реакцию и опасалась ее; но не поедет за ним без его на то разрешения; надо собраться с силами, к тому же лучше умереть, чем увидеть ужас на его лице при ее появлении.
Едва письмо было закончено, как принесли телеграмму от некоего Орлова, корреспондента «Русского слова», который, не посоветовавшись ни с кем, решил предупредить родных Толстого, что он болен, в Астапове, у него высокая температура.
Придя в себя, Софья Андреевна решила немедленно ехать с детьми и приставленными к ней врачом и сестрой. Несмотря на тревогу, поразительно трезво следила за тем, как укладывали багаж, не забывая о мелочах, которые могли бы пригодиться мужу. Когда прибыли в Тулу, оказалось, что единственный поезд на Астапово ушел. Но специально для них прицепили вагон к экстренному поезду.
Утром второго ноября к Толстому вошел Чертков, который провел в пути всю ночь, сопровождал его Сергеенко. Лев Николаевич задыхался, у него был сильнейший жар, но он был так рад видеть ученика. Владимир Григорьевич взял его худую морщинистую руку и поцеловал. Оба плакали. Собравшись с силами, больной спрашивал о Соне, детях, друзьях, выслушал письмо Черткова, которое тот написал для газет, объясняя уход писателя, и сказал: «Очень, очень хорошо».
К одиннадцати часам температура поднялась до 39,6. Сердце слабело, Маковицкий дал пациенту шампанского. Входившие в комнату снимали обувь, чтобы не шуметь. После полудня прибежал испуганный Озолин и по секрету сообщил Саше, что телеграфировал ему коллега со станции Щёкино: в специальном поезде в Астапово направляется графиня с детьми, будут около девяти вечера.
Посовещавшись после некоторой паники, присутствующие чуть успокоились. Согласились, что встреча Льва Николаевича с женой может иметь серьезные для него последствия, а потому Маковицкий, пользуясь своим авторитетом врача, должен убедить Софью Андреевну, что лучше ей и детям с Толстым не видеться. Саша, не обращая внимания на докторов и родных, взяла на себя смелость не пускать мать к отцу, пока он сам не захочет этого. Она уже сожалела, что позвала Сергея и Никитина, отправила брату новую телеграмму, в которой говорилось, что опасность миновала, приезжать не стоит. Поздно – в восемь вечера Сергей был в Астапове.