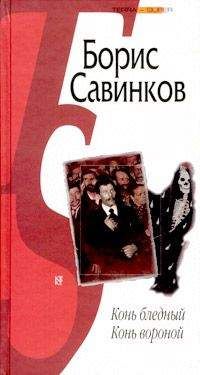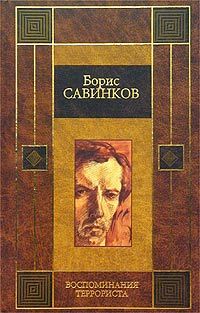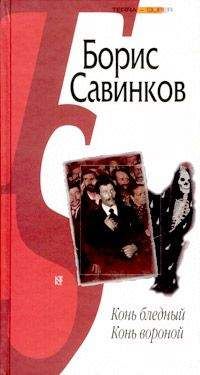Ян Слауэрхоф - Запретный край. Перевод Ольги Гришиной
Она оставила его лежать, он пока не мог прийти в себя, возможно, никогда не придет. Утром появился немой рыбак, который мог бы перенести его в свой сампан и бросить где-нибудь на пустынном берегу, предоставив смерти, если он уже не был трупом. В этом она не видела никакой жестокости: разве мало было вдоль дорог мертвецов, уже покрытых трупными мухами, которых они уже не могли отогнать? Смерть тоже была ни чем иным, как переходом в другое состояние.
Но утром ей захотелось вновь увидеть его лицо. Теперь у него было наполовину злобное, наполовину пленительное выражение. Он не мог быть таким, как другие. Теперь ей стало любопытно, какие у него глаза. Она сама поставила пищу и воду рядом с ним, чтобы он, очнувшись, мог обнаружить их, и отправила лодочника одного, как ни отговаривала ее ама, указывая на опасности. Она и сама не знала, как поступить с ним: он мог оказаться беглецом, который тоже хотел скрываться и мог помочь им с наблюдением; но он мог и выдать их…
Она остановилась, склонилась над цветком и стала ощипывать листья. Когда она выпрямилась, он стоял рядом, сначала радостно, затем обвиняюще глядя на нее. Затем он нервно заговорил; поток слов, из которых она не поняла и половины: хотя это и были слова языка, на котором говорил ее отец, но звук, фразы, всё было другое. Пилар прикрыла глаза, чтобы слышать только голос, чтобы не видеть потрепанного, изнуренного человека, стоявшего перед нею, выступающие из одеяния руки, налитые кровью глаза, запекшиеся, широко раскрытые губы. Голос был хриплый, но не сорванный, и тон его казался даже презрительным – он говорил обо всем на том берегу в Макао и о тех, кто там правили.
Она продолжала слушать. Голос вновь сделался печальным, обвиняющим и, наконец, поскольку это повторялось, она поняла, что он говорил о ней и обвинял ее.
Это рассердило ее; она громко рассмеялась, отскочила в сторону между кустов и посмотрела на него сквозь листву. Он пошатнулся, попытался вновь найти ее, поднес руку ко лбу, топнул и внезапно повернулся к ней спиной. Он начал спускаться по тропинке, но тщетно; через несколько шагов он стал двигаться медленнее, прислонился к дереву и прижался головой к стволу. Пилар медленно подошла к нему и терпеливо дождалась, когда он поднимет взгляд. Она поступала с ним, как ребенок с раненым животным. Но он продолжал стоять в той же позе. Она хрустела ветками, подталкивала его, смеялась. В конце концов он посмотрел на нее, теперь молча и беспомощно, и всё же по-прежнему в его взгляде были горечь и обвинение.
Когда он вновь заговорил, Пилар опять удивилась; такого тона она никогда еще не слыхала: голос ее отца всегда был громким и повелительным, Ронкилью – хвастливым и резким; голоса монахов были слащавы и исполены святости, словно исходили из говорящих молитвенников. Но внезапно она поняла, что чужестранец поторопился принять ее за другую, похожую на нее, но с иными глазами, вероятно, португальскую женщину. Теперь она попыталась успокоить его, но из-за того, что она говорила на маканском диалекте, она плохо понимал ее. И всё же он позволил увести себя в комнату, в которой ютился. Она позвала ама, знавшую средство от лихорадки.
На следующее утро он казался спокойнее, и Пилар вновь пошла к нему. Когда она открыла дверь, ей на секунду показалось, что она вернулась в свою комнату, из которой убежала. Она хотела вновь закрыть дверь, но было поздно: он подошел к ней, встал на колено и благодарно взял ее за руку. Он спросил, кто она и, за неимением дома и оружия, предложил ей свою жизнь. Она попросила его сначала сообщить свое имя. Он не назвал себя, но поведал, что он – впавший в немилость португальский дворянин.
– Странный вы рыцарь, который прямо говорит женщине, которой еще и дня не знает, такие вещи о ее лице: что оно было бы так же красиво, как и у его бывшей возлюбленной, будь у него другой разрез глаз. Я не знаю, что вы пережили в Португалии, может быть, рассудок ваш повредился. Я все равно скажу вам, кто я: дона Пилар, дочь прокуратора Макао. Мой отец, поскольку португальские женщины не отваживаются пускаться в такую даль от родины, подыскал себе китайскую невесту. Так что у меня глаза моей матери. Она умерла, и мой отец принуждает меня выйти замуж за человека, который мне не нравится; у меня нет покровителей, кроме доминиканцев, да и тех преследуют. Тогда я бежала сюда, надеясь, что никто не найдет меня здесь. Ама и я по очереди бодрствуем, чтобы нас не застали врасплох грабители. Мы устали; вы можете помочь нам. Я полагаю, вы также боитесь опасности с противоположной стороны; держите глаза открытыми, не думайте о моих глазах, я здесь просто для того, чтобы избежать одного мужчины, и не хочу другого; не сравнивайте меня непрестанно с вашей прежней возлюбленной или мечтой, бдите ночью и укрывайтесь днем в своей комнате, и тогда сможете оставаться.
Камоэнс остался один, с печалью сознавая, что истина не дает ему никакой надежды. Он не выходил из комнаты, порой испытывая головокружение, словно его существование разлеталось брызгами, чтобы попасть в события, которые не имели связи с этой жизнью. Когда стемнело, вошла ама, сделала ему знак следовать за ней и привела его к стене, где он должен был держать вахту. Старуха поставила рядом с ним вино и фрукты и ушла. Он зорко следил за бухтой; порой мимо скользили паруса, но близко не подходили. В городе было еще темно, только слабо светил маяк. В середине ночи погас и он, но вскоре после этого вспыхнул огонь на том же месте, в темных скалах, и горел всю ночь. На рассвете, прежде чем город стал четко виден, китаянка пришла сменить его.
IV
Так проходили целые дни и ночи. Порой лунный свет настолько просветлял его мысли, настолько успокаивал, что он брался за перо, но далеко никогда не продвигался, словно Диана и Пилар, каждая со своей стороны, насмешливо и презрительно смотрели на него. Он нес вахту раз двенадцать, луна убывала, и вот наступила ночь, когда ветер переменился и подул со стороны города на остров. Ему показалось, что он слышит шум; костров зажжено не было, но с другой стороны города поднимался широкий столб дыма, постепенно переходящий в пламя. Должен ли он предупредить Пилар? Он подумал, что, возможно, застанет ее с закрытыми глазами; обойдя дом, он увидел слабый свет и распахнул ставни. Пилар лежала раздетая под москитной сеткой, но не спала; она не испугалась его прихода, спокойно встала и набросила плащ.
– Они уже близко?
– Сюда они не придут.
– Отчего же вы побеспокоили меня?
Без дальнейших слов она отправилась с ним на берег. Сначала она ничего не видела; может быть, огонь погас? Камоэнс указал на направление дыма: в этот же момент огонь вспыхнул вновь, заплясали языки пламени. Пилар схватила его за руку.
– Это монастырь. Они изгоняют доминиканцев. Должно быть, это из-за меня. Отправляйтесь на ту сторону и посмотрите, что там происходит.
– И оставить вас без защиты?
– Этой ночью никто не появится, а к утру вы уже вернетесь.
Камоэнс взял сампан, лежавший у стены, и за полтора часа пересек бухту; назад, с попутным ветром, будет быстрее. Он припрятал лодку среди сгрудившихся джонок и запечатлел место в памяти; потом взобрался на причал. Все улицы были пустынны; он шел торопливо, порой теряя направление, но затем снова замечал дым и огонь, поднимающийся над крышами домов.
Монастырь стоял на широкой площади; оба флигеля были охвачены пламенем, средняя часть еще не загорелась. Перед тяжелыми запертыми воротами он увидел кучку земли рядом с ямой – видимо, свежевырытой. Военный отряд теснил толпу китайцев. Среди скорбных воплей, доносящихся из нее, он разобрал призывы к мести и истязаниям. Постепенно из разговоров обступавших его колонистов Камоэнс выяснил, что доминиканцев обвиняли в ритуальном убийстве: в монастырском саду были найдены два детских трупа, в которых опознали детей одного китайского купца. Толпа взывала к мести. Если доминиканцы останутся безнаказанными, с колонией будет покончено. Правительство поставило гарнизон у входов в монастырь; и всё же этой ночью его подожгли, чернь ждала, когда огонь выкурит доминиканцев, чтобы выместить на них злобу. Вопрос был в том, насколько у слабого гарнизона хватит сил, чтобы обуздать толпу.
Камоэнс неосторожно задал несколько вопросов, не подумав о том, что в Макао все португальцы, которых в то время насчитывалось четыре сотни, знают друг друга в лицо, так что он неизбежно привлечет к себе внимание. Его стали расспрашивать, кто его он такой; он не нашелся, что ответить; к счастью, давка спасла его. Огонь теперь перекинулся на центр монастыря, и ворота распахнулись. Солдаты образовали двойную цепь, повернув штыки против напирающего народа; кое-кто из толпы, напоровшись, с руганью свалился на землю; монахи же тем временем спокойно выходили наружу. Последний, высокий человек с развевающимися седыми волосами, принялся было запирать за собой ворота, словно хотел как можно дольше сохранить монастырь, но двое из толпы, прорвавшись сквозь цепь, бросились на него.