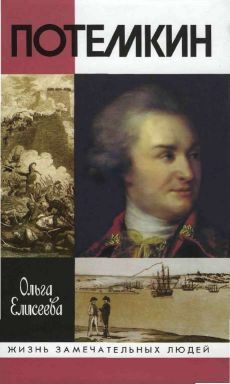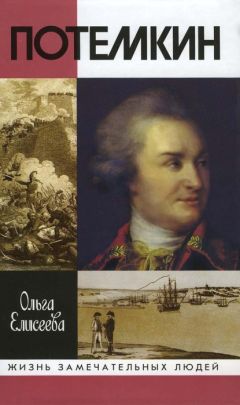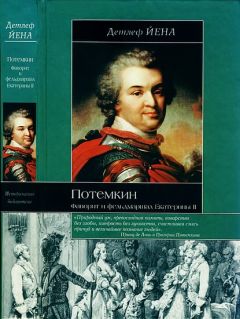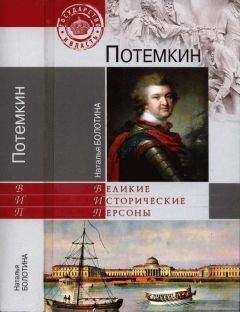Еремей Парнов - Витязь чести: Повесть о Шандоре Петефи
— И мне стыдно. Унизительно потакать подлости, болтать о добре, а на самом деле служить злу. Постепенно теряешь реальные представления о том, что происходит: то ли ты сумасшедший, то ли остальные потеряли рассудок. Всеобщая пляска безумия. Мудрецы, околевающие от голода, слывут помешанными, потому что отказываются грабить и убивать, а старым солдатам, у которых не хватило в свое время ума отказаться, вместо пенсии вешают на грудь медаль за службу и увечье. Цинизм, граничащий с идиотизмом.
— Ты уверен, что и другие, где-то там, за Тисой, за Моравой, в Карпатах, думают так же?
— Думают? Не знаю… Не уверен. — Петефи озабоченно примолк. — Но чувствуют они так же, как мы. И это главное! Мы, молодые, должны раскрыть им глаза. Жизнь, которую нас принуждают влачить, недостойна человека. Лучше пойти на виселицу, чем служить обществу, для которого малейшая росинка любви убийственнее целого океана яда.
— О чем шепчутся карбонарии? — за столик подсел Себерени, которого Петефи знал с гимназических времен. Он пробавлялся критическими статьями о поэзии, о театре и в поисках заработка частенько наведывался в «Пильвакс». — Сервус!
— Садись, — запоздало пригласил Петефи и сделал знак принести еще чашку. Его горевшее откровенностью лицо погасло и замкнулось. — Что скажешь?
— Извините, господа, если ненароком помешал. Может быть, у вас секретный разговор? Так вы скажите… — Себерени сделал вид, что хочет встать и уйти.
— Никаких секретов у нас нет и быть не может, — медленно отчеканил осмотрительный Пак. Очень уж не понравилась ему наглая и в то же время заискивающая манера Себерени. Его суетливо гримасничающее лицо.
— Скрывать нам нечего, тем более от тебя, — Петефи многозначительно глянул на Пака. — Когда я родился, судьба постлала мне искренность простынкой в колыбель, и я унесу ее саваном в могилу. Лицемерие — нетрудное ремесло, любой негодяй в нем горазд, но говорить откровенно, искренне, от всей души могут и смеют только благородные натуры. Может быть, мое суждение о себе неверно, но я достоин уважения хоть за то, что смею открыто высказать свои чувства. A la lanterne les jesuites![31] — неожиданно выкрикнул он и стукнул кулаком по столу.
Себерени вспыхнул, его подвижная физиономия исказилась недоброй и жалкой ухмылкой. Он вскочил, неловко смахнув чашку себе на колени, и, отряхивая липкую гущу, метнулся в уборную.
— Кто это? — спросил Пак.
— Merde, — назвал по-французски Петефи и сморщил нос, как от злостной вони.
— Тогда ты проявил излишнюю горячность.
— Плевать, — отмахнулся Петефи. — Пусть знают…
9
Облачным вестником взметнулся дымок из жестяной высокой трубы над Сикстинской капеллой, и белее вознесенных над вечным городом мраморных апостолов, развевающих свитки, виделись в пыльной голубизне его легкие завитки.
— Папа! У нас есть папа! — прокатился ликующий клич, и, словно по волшебству, томительный свет предзакатный сусально вызолотил холмы.
И тотчас же жгучее ожидание, которым жил город все эти дни, сконденсировалось в нетерпеливом вопросе: «Кто?» Ужели мрачный фанатик Ламбрускини, могущественный статс-секретарь, который наверняка станет продолжать политику прежнего понтифика, опасавшегося любых перемен? Римскому плебсу было все безразлично, но патриотам, особенно молодым, хотелось верить, что победителем выйдет Мастай-Ферретти. Недаром ходили слухи, будто Вена всячески противится избранию на святейший престол именно этого кардинала, слывшего либералом и ярым противником австрийского владычества. А что плохо для австрийцев, то хорошо для Италии. Знатоки изощренной ватиканской дипломатии уверяли, однако, позволив себе мимолетную ироническую ухмылку, что не пройдет ни тот, ни этот кандидат, а, как всегда, к финишу первой прискачет «серая лошадка». Называлось даже имя терпимого и склонного к умеренным реформам, но бесцветного кардинала Джидзи. Борьба, во всяком случае, велась упорная, и обе главные силы — австрийцы и поборники объединения Италии — сделали все возможное, чтобы повлиять на решение конклава. Разумеется, до той минуты, пока Сикстинская капелла не была замурована свежей кирпичной кладкой и все связи кардиналов-выборщиков с внешним миром не свелись к ежедневной доставке провизии и сигнальному дыму, валившему из жестяной трубы, когда сжигали после очередного тура избирательные бюллетени. И всякий раз, завидев над папским дворцом черные клубы, римляне озабоченно осеняли себя крестным знамением: «Не выбрали, не сговорились…»
Сырая солома и пакля траурным крепом осеняли притихшую, настороженную столицу. Жирная сажа опадала на бесценный каррарский мрамор, превращая его в жженую кость.
И вот, наконец, счастливый знак. Белая голубка с оливковой веточкой в клюве. Истопник, как видно, не пожалел сухой итальянской соломки, припасенной для столь торжественного момента в большущей корзине с высоким знаком из двух сложенных крест-накрест ключей. Все круче и веселей взвивались белые пряди в предзакатную знойную бездну, очерченную золотистым неровным контуром Семи предвечных холмов.
Заполнив площадь Святого Петра, богомольные горожане и пилигримы со всех концов Европы преклонили колени. Шепча молитвы, сомкнув ладони, ждали оповещения. Бились, пуская пену, кликуши, заливались истерическим плачем дети, не выдерживая давящего ожидания.
Когда ж наконец, отражая багровый свет, вспыхнули зеркалами стеклянные двери, заголосили вдруг и пожилые римлянки, пряча под черными платками заплаканные глаза.
Красные мантии кардиналов, заполнивших балкон Квиринала, казалось, затмили зарю. Все участники конклава, и среди них где-то он, богоравный преемник святого Петра, вышли, по обычаю, явить себя христианскому миру.
Пала на площадь такая мертвая тишина, что даже голуби поспешили прервать беззаботный полет.
— Nuntio vobis gaudium magnum, — возвестил кардинал-камерленго традиционную формулу, — habemus Papam![32] — И с нарочито римским акцентом назвал вожделенное имя: — Пио Ноно!
И сразу красные фигуры на балконе зашевелились, перестроились, образовав посредине пустое пространство, где остался в своем высоком одиночестве избранник.
Крики восторга волнами всплеснули к его ногам, и повсюду стали повторять имя, пока ничего для большинства не раскрывающее: «Пий Девятый!» Но навстречу нараставшему валу ликования понеслось, набирая стоустную мощь, другое имя, исполненное мирского значения и страсти: «Мастай-Ферретти!»
Случилось невозможное. Могущественные старцы отдали святейший престол пятидесятичетырехлетнему претенденту, почти Эфебу по их меркам, а не архонту, стоящему на краю отверстой могилы!
Как? Почему? Отчего?
Господи, на то твоя воля!
Бывший наполеоновский офицер, сторонник просвещения и гуманизма, обрел высшую, после бога, власть на земле. И все кончалось за этой чертой. Тщетные потуги австрийского посла графа Шпаура, запоздавший приезд миланского архиепископа Гайсрука, ожидания Парижа, тревоги Вены. Человека, которому протежировали одни и кого опасались другие, отныне не стало.
Джованни Мария граф Мастай-Ферретти обрел новую сущность под именем Пия Девятого, и с этим приходилось считаться как с непреложной реальностью.
Подойдя к балюстраде, новый понтифик уверенно поднял руку, благословляя «urbi et orbi» — «вечный город и мир».
«Черный папа», или генерал могущественного ордена иезуитов отец Ротоан, воспринял весть об избрании Мастай-Ферретти с достойной сдержанностью. Слишком сильна и незыблема была тысячелетняя иерархия церкви, чтобы на ее политику могла сколь-нибудь существенно повлиять отдельная личность. Папа, кто бы он ни был, в конце концов, всего лишь человек и, следовательно, четко означены пределы, которые ему дано перейти.
В тот же вечер отец Ротоан принял у себя в резиденции на виа Санто Спирито Борга вызванного из Петербурга отца Бальдура.
Серое массивное здание с колоннами и портиками было построено так, что уличный шум разбивался о его строгий фронтон, не достигая отдаленных покоев.
Пусть хмельная студенческая ватага тянет «Gaudeamus igitur»,[33] а из ближайшей траттории долетают пленительные рулады «Cazza ladra»,[34] в холодных коридорах и гулких мраморных залах Общества Иисуса, словно в ракушке, шуршит чуткая, настороженная тишина. Неясным шелестом отзывается она на треволнения суетных улиц, долгим замирающим стоном встречает бронзовый бой старинных часов, когда скелет с косой начинает трясти свой колокольчик. «Memento mori» — «думай о смерти». Вслушивайся в зов вечности, презрев пляску раскрашенных кукол. Все нити, приводящие в движение коронованных паяцев и увешанных орденскими лентами дураков, сходятся у неприметных дверей генеральского кабинета. Здесь, а не в расположенном поблизости Ватикане решаются судьбы народов и государств.